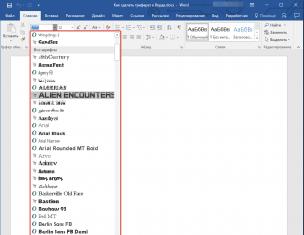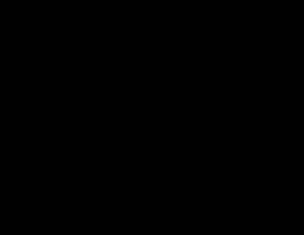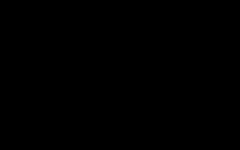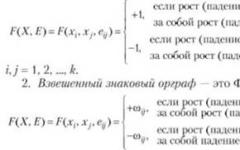Но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимой бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой...
Пусть грянет Русь военного грозой –
Я в этой песне запевало!
Мастерски работая над словом, поэт-партизан никогда не стремился поскорее напечатать свои стихи, довольствуясь тем, что его басни, песни и эпиграммы и без печати рыскали повсюду, как его гусары и казаки. Однажды знакомый спросил Дениса Васильевича, почему он до сих пор (шел 1826 год) не собрал и не издал своих стихотворений. «Эх, братец, к чему? Ведь их и без того все знают наизусть, – шутливо ответил ему Давыдов и, помолчав немного, прибавил: – А издай их, – выйдет книжонка, да они врозь не так и приедаются».
Он, довольствуясь, как сам признавался «рукописною или карманною славой», добавляя: «Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар – как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения». Лишь через тридцать с лишним лет после первых стихотворных опытов, он решился «на собрание рассеянной своей стихотворной вольницы». Осенью 1832 года, к великой радости друзей и почитателей поэзии Давыдова, в книжных лавках Москвы появился первый и единственный при его жизни сборник стихотворений, изданный в типографии Салаева в малом формате с виньеткой. В нем были помещены тридцать девять произведений, отобранных автором строго и взыскательно, о чем он не преминул написать другу Петру Вяземскому: «Вся Гусарщина моя хороша и некоторые стихи, как «Дашенька», «Бородинское поле», изрядны, но Элегии слишком пахнут старинной выделкой».
Открывался сборник биографией «Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова». В краткой заметке-аннотации издатель Салаев извещает читателей, что считает необходимым «поместить легкий очерк жизни, написанный одним из друзей-сослуживцев военного человека и оригинального поэта нашего...» И стихи, и полная остроумия и сарказма биография должны были послужить, по чаянию автора, вовсе не для погони за птицей-славой, коей он был достоин «не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии».
Решившись, на свой страх и риск, составить собственную биографию, Давыдов приписал ее авторство своему другу, генерал-лейтенанту О.Д. Ольшевскому, умершему незадолго до выхода книги.
Бравый партизан всегда отличался скромностью, и, верно, поэтому он просил Вяземского, чтобы тот «уверял всех и каждого», что сей биографический очерк принадлежит не его перу. Денису Васильевичу было неловко, что там имеются лестные и снисходительные слова, характеризующие автора и язвительные для других. Но друзья и почитатели поэта, а также критики сразу распознали, кто истинный сочинитель по бойкому воинскому слогу, характерному для «пламенного певца биваков».
В первоначальной редакции биография оканчивалась весьма лукаво и потешно: «Он, как мы уже видели, писал стихи, любил вино и женщин – сего достаточно, чтобы заслужить имя неделового и даже неосновательного человека. Напротив того, большая часть офицеров армии почитают его умным, неустрашимым и предприимчивым воином. Мы оставляем другим решить, справедливо или нет сие мнение. Чтобы одною чертою выразить Давыдова, скажем, что в голове его эпиграмма, а в сердце элегия, что он соединяет в себе два редко соединяемые качества: доброго малого и острого малого. Вот весь Давыдов».
Книга Давыдова была издана небрежно, на плохой бумаге, с опечатками. По сему поводу автор сетовал Вяземскому: «Получил ли ты стихотворения мои? Я приказал Салаеву послать и тебе один экземпляр. 1 Пушкину, 1 Дашкову, 1 Блудову и 1 Жуковскому чрез тебя... Нет, как ни говори и как ни люби нашу матушку-Белокаменную, но она весьма отстала от Петербурга даже в красоте книгопечатания: вкусу нет!.. Впрочем, я сам виноват, такие дела не препоручают другим, а требуют надзору хозяина. Будь я в Москве, то издание было бы красивее и не было бы опечаток, которые мне глаза колют. Например: в новой моей пьесе «Гусарская исповедь» не видели бы «Где спесь до подлости». А было бы как в оригинале: «Где спесь да подлости».
В стихах Давыдова порою стоит многоточие, употреблены неприличные слова, ибо без крепкого словца в армии не обойтись. Гусар же и в поэзии и в жизни должен оставаться гусаром. Однако не будем ханжествовать и строго судить Давыдова за крепкие слова, тогда и Пушкина следовало бы упрекнуть за «Телегу жизни» и Лермонтова – за превосходную «Казначейшу», и многих других известных поэтов.
Первая, робкая поэтическая ласточка знаменитого партизана не пронеслась невидимкой в первопрестольной столице. Ее сразу заметили и радушно встретили современники. Многие почувствовали в стихах Давыдова нечто лихое, бивачное, гусарское, столь созвучное их душе, ибо они были «наточены на том самом камне, где точат штыки...» Критик Н.И. Надеждин писал в «Телескопе», что в этой маленькой книжице «плещет и разливается истинная жизнь... Ис-крометность сверкает молнийными струями ярких, сильных мыслей, стихи гусара «в заветных рукописных лоскутках переходили из рук в руки, утехою молодежи и соблазном степенников...»
Один князь на балу в кругу знакомых принялся рассказывать, с какой легкостью и быстротой он достигал в жизни высоких чинов и почестей на разных поприщах, верша головокружительную карьеру:
– Не прошло и пяти лет, господа, после окончания мною кадетского корпуса, как я уже стал генералом! Далее меня перевели во флот, где вскорости я был произведен в адмиралы. Позднее я перешел на дипломатическую службу. Там меня также заметили, и через год я получил высокое назначение – послом в Константинополь!
Знакомые с сахарными улыбками на устах согласно кивали князю. Казалось, его хвастовству не будет предела.
– Мне представляется, ваше сиятельство, что ваши великие таланты и способности пригодны в любой области, – кротко заметил оказавшийся поблизости Денис Давыдов. – Скажем, постригись вы завтра в монахи, как ровно через шесть недель у вас вырастут крылья и вы взлетите на небеса...
Свои стихи Давыдов читал не громко и лихо, а немного нараспев, задушевно. В какие-то мгновения он перевоплощался в своего героя. В нем кипела неустанная работа души, не позволявшая ему расслабиться и почить на лаврах. Поэзию Денис Васильевич любил страстно и, как говаривали в старину, горячо и свирепо.
Шумная и суетливая столица кружила голову и вскоре надоедала Давыдову. Повздыхав, он сетовал: «Страх как опять хочется в Мазу, в наши благословенные степи...» Старший сын партизана, Василий Денисович, поминал, что отец его в деревне вел размеренный и самый регулярный образ жизни. Поднимался он зимою и летом в четыре утра, с первыми петухами. Садился писать. Завтракал в девять часов при утреннем чае. Гулял, или, точнее сказать, производил усиленную ходьбу, неизменно столько-то верст по неоднократно проторенным им тропам. Обедал в три часа и засыпал в кресле на несколько минут, нередко даже в пылу самого живого разговора. Проснувшись, тотчас же продолжал прерванный разговор или давал ответы на разные вопросы. Потом снова письменные занятия за столом. И наконец беседы, воспоминания о былом и шутки за вечерним чаем. А в десять – покой. Такова его жизнь в последние годы. Повсюду Дениса Васильевича сопровождала его неизменная трубочка, которую он набивал сам и курил целый день, несмотря на свои недуги, кашель и удушье. Литератор М.А. Дмитриев, весьма почитавший пламенного гусара, поместил запоминающийся портрет его в книге «Мелочи из запаса моей памяти: «Давыдов был не хорош собою, но умная, живая физиономия и блестящие, выразительные глаза – с первого раза привлекали внимание в его пользу. Голос он имел писклявый, нос необыкновенно мал, росту был среднего, но сложен крепко и на коне, говорят, был как прикован к седлу. Наконец, он был черноволос и с белым клоком на одной стороне лба. Одно известное лицо, от которого могла зависеть судьба его, но которым он почитал себя вправе быть недовольным, спросил его однажды:
– Давыдов! Отчего у тебя этот седой тюк?
– То клок печали! – парировал Давыдов.
«Ты радуешься, что во мне червяк поэзии опять расшевелился, – писал Денис Давыдов Петру Вяземскому. – Выражение твое не точно: для меня поэзия не червяк... Мне необходима поэзия, хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, – изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или с гонителей с поля битв на пашню.
От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспламеняется – и я опять поэт».
Осенняя любовь гусара
О как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!Ф.И. Тютчев
Долгая, с буранами да метелями, морозная зима 1833 года. Глухое заснеженное село Алферьевка Пензенской губернии с затейливыми, искусно выточенными резными наличниками на окнах, «подзорами»... Причем «подзоры» у каждой избы были свои, неповторимые, словно плотники старались щегольнуть друг перед другом в мастерстве и выдумке... Здесь, в доме боевого соратника по партизанской войне, весельчака и хлебосольного хозяина, «весьма храброго и надежного в деле» Дмитрия Алексеевича Бекетова Давыдов познакомился с его пленительной племянницей, двадцатидвухлетней красавицей Евгенией Золотаревой.
Начитанная и музыкально одаренная девушка недавно окончила пансион в Пензе. Она любила поэзию и помнила наизусть много стихов, в том числе и знаменитого партизана, о ратных подвигах которого была наслышана от своего дяди.
С первого взгляда Евгения произвела на Давыдова сильное, неизгладимое впечатление, словно весенняя радость на душу. Девушка эта как бы светилась изнутри каким-то особым, таинственным, необычайно притягательным светом. Лицо ее озаряла кроткая очаровательная улыбка. «Ах, как ты хороша, – восхищалась чуткая душа отставного, но еще бравого генерала. – У тебя высокий лоб и алые губы бантиком. У тебя густые, каштановые, зачесанные в тугую косу волосы. У тебя большие карие радостно-восторженные глаза, обрамленные длинными ресницами. В твоем наряде нет ничего броского, лишнего... Все строго, со вкусом. Нет дорогих камней, украшений, золота... Ибо не в них краса русская! Ты знаешь это и, видно, потому изящна, скромна и неотразима! В твоем девичьем, поэтическом облике все прелестно!» Судьбе гусара было угодно, чтобы его страстная натура нежданно-негаданно открыла в глухой провинции, в лице Евгении Золотаревой, предмет глубокого восхищения и поклонения.
Евгении впервые в жизни встретился столь блестящий, опаленный войной и не опьяненный славой, образованный человек, на которого она, затаив дыхание, могла часами смотреть снизу вверх, благоговея перед ним. «Я знаю, ты умен и талантлив, – молча говорили потупленные карие, с потаенным блеском, глаза Евгении. – Мне нравится, как ты то и дело обжигаешь меня своим жарким взором. Возможно, ты не хотел сразу показать, что очарован мною, но ты не умеешь скрывать своих чувств. На твоем лице – и лихая гусарская удаль, и азарт страстного охотника, и глубокие морщины на челе – след тяжелых и дальних походов и седой клок мудрости и печали в кудрях».
С той поры они стали видеться у друзей, на ярмарках, в церкви на Рождество, в театрах и на балах в Пензе. Перед Давыдовым простиралась широкая городская площадь, освещенная фонарями. Богатый дворянский особняк с белыми колоннами находился от него по правую сторону. У парадного подъезда вечерами здесь собирались знатные господа. В особенности среди них почитались одаренные люди – музыканты, поэты, композиторы. Нынче все они были приглашены на бал. К воротам то и дело подъезжали кареты, запряженные шестеркой, в сопровождении двух-трех экипажей. Взор пламенного гусара неустанно и страстно искал кого-то среди гостей. И вот наконец-то Давыдов вздохнул с облегчением и смиренно потупил глаза. Ее стройный стан был схвачен длинным, в пол-аршина подолом, напереди застегнутым пуговицами. А назади – бористое платье, называемое ферязью... Рубашка тонкая, кисейная, с пышными рукавами и кружевными манжетами. Грудь подпоясана лентою, а голова украшена пышной высокой прической с длинной косой. Походка девушки была легкой и плавной. То пензенская красавица Екатерина Золотарева пожаловала на бал: «себя показать да и на других посмотреть». Восхищенный чудом красы и прелести, Денис Васильевич писал Н.М. Языкову: «...Пенза – моя вдохновительница. Холм, на коем лежит этот город, есть мой Парнас с давнего времени, здесь я опять принялся за поэзию...»
В стихах Давыдов воссоздал облик своей «провинциальной прелестницы»:
«...Вы всегда говорили мне, что из романов любите всегда менее игривые, – заметил в письме Евгении Давыдов. (Он часто посылал ей новые интересные издания, ноты, романсы...) – Я писал так моему поставщику Беллизару, и он мне прислал один из знаменитых – А. Дюма. Я не знаю, достоин ли он быть Вам предложенным, я его не читал, так как получил только вчера, а сегодня посылаю вам. Также посылаю повести Пушкина, прочтите их, я уверен, что Вы их будете ставить гораздо выше Павлова. Особенно «Выстрел», который Пушкин сам мне читал много раз, и я перечитываю его с большим удовольствием...»
В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой,
И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!..
Евгении Золотаревой Давыдов посвятил великолепный цикл лирических стихов, полных свободного, легкого и счастливого дыхания, без которого все чувства и мысли не стоят, как говорится, ломаного гроша. Они помечены 1833 и 1834 годами: «NN», «Ей», «Романс», «И моя звездочка», «Записка, посланная на бале», «О, пощади», «О, кто, скажи ты мне, кто ты...»
В альбом «виновнице своей мучительной мечты» – Евгении Золотаревой – Давыдов пишет:
А сколь радостна, сколь нежданна после разлуки встреча с любимой:
О, кто, скажи ты мне, кто ты,
Виновница моей мучительной мечты?
Скажи мне, кто же ты? – Мой ангел ли хранитель
Иль злобный гений – разрушитель
Всех радостей моих? – Не знаю, но я твой!
Но только что во мне твой шорох отзовется,
Я жизни чувствую прилив, я вижу свет
И возвращается душа, и сердце бьется!..
При чтении этих строк, навеянных свиданием поэта с Евгенией, невольно вспоминается знаменитое тютчевское:
Когда я повстречал красавицу мою,
Которую любил, которую люблю,
Чьей власти избежать я льстил себя обманом, –
Я обомлел! Так, случаем нежданным,
Гуляющий на воле удалец, –
Встречается солдат-беглец
С своим безбожным капиталом.
О стихотворении «Речка», опубликованном в журнале «Библиотека для чтения», Денис Давыдов писал летом 1834 года А.М. и Н.М. Языковым: «Мое мнение, что в нем нет единства: читатель не догадается, к кому больше страсти – к речке или к деве, которая в конце пьесы является, надо было бы менее огня вначале, а то нет оттенка, эта ошибка неизгладима. Но все же стихи, кажется, и звучны и хороши...»
Я встретил вас – и все былое
В отжившем сердце ожило...
К этому звонкому, прелестному стихотворению один из пензенских композиторов написал музыку. И Давыдов сразу же передал ноты Евгении.
Но где б я ни был, сердце дани –
Тебе одной. Чрез даль морей
Я на крылах воспоминаний
Явлюсь к тебе, приют мечтаний,
И мук, и благ души моей!
Явлюсь, весь в душу превращенный
На берега твоих зыбей...
Стихотворение «Вальс» проникнуто трепетным и высоким чувством горячо влюбленного поэта:
Меж тем «пьеса» эта без ведома и разрешения автора и без его имени была напечатана в «Северной пчеле». Ходивший в Пензе в списках «Вальс» передал в редакцию журнала известный водевилист той поры П.Н. Арапов. Он снабдил это послание более чем прозрачным примечанием: «...Один из любимых наших поэтов, отдыхавший у нас от бурь военных – «в мире счастливый певец – Вина, Любви и Славы», – смотря на наших полувоздушных спутниц Терпсихоры, порхающих в вальсе, воспел одну из них...»
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит, воздушна и стройна,
Моя любовь, моя ,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей!
25 октября 1834 года Давыдов пишет в альбом своей «виновнице поэтических страстей»
Вскорости в журналах объявились первые страстные «песни любви» Давыдова, да еще с указанием города, где проживала «краса и прелесть» поэта. По сему поводу гусар гневался и добродушно корил Вяземского: «Злодей! Что ты со мною делаешь? Зачем же выставлять «Пенза» под моим «Вальсом»? Это уже не в бровь, а в глаз: ты забыл, что я женат и что стихи писаны не жене. Теперь другой какой-то шут напечатал «И моя звездочка...» – вспышку, которую я печатать не хотел от малого ее достоинства, а также поставил внизу Пенза. Что мне с вами делать? Видно, придется любить прозою и втихомолку. У меня есть много стихов, послал бы тебе, да боюсь, чтобы и они не попали в зеленый шкаф «Библиотеки для чтения». Вот что вы со мной наделали, или, лучше, – что я сам с собой наделал!
Я не ропщу.
Я вознесен судьбою
Превыше всех! –
Я счастлив, я любим!
Приветливость даруется тобою
Соперникам моим...
...Шутки в сторону, а я под старость чуть было не вспомнил молодые лета мои, этому причина – бродячий еще хмель юности и поэзии внутри человека и черная краска на ней снаружи, я вообразил, что мне еще по крайней мере тридцать лет от роду».
Порой, чтобы забыться и заглушить в себе внезапное и столь глубокое чувство, Давыдов с азартом предавался своим давнишним утехам: на ранней заре со стаей гончих ездил на охоты по волкам и зайцам или же долгие часы до самозабвенья просиживал за широким, обложенным бумагами и книгами письменным столом, воспоминая о былых походах.
Преданному другу Вяземскому, посвященному во все душевные страсти и муки, Денис Васильевич писал, сетуя, что «собачья охота и травля поляков, о коих пишу», увлекли немного в другую сторону, да жаль, что ненадолго... И пламенный гусар вновь повсюду искал встреч со своей «прелестницей» и «предвещательницей дня». Он слал ей любовные послания:
Пришедший столь нежданно, трепетной и тревожной, осенней любви Давыдов отдал свои самые светлые душевные порывы, посвятил ей все свое поэтическое вдохновение:
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, –
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья...
Я вас люблю затем, что это – вы!
В те годы не только в Москве и Петербурге, но и во многих провинциальных городах вошло в моду увлечение театром, благородными спектаклями. Конечно же, этим славилось высшее общество. «Партикулярные спектакли» давались два, а то и три раза в месяц в роскошных дворянских особняках, обычно в больших фамильных залах. Актерами состояли сами господа-любители и крепостные крестьяне.
Я люблю тебя, без ума люблю!
О тебе одной думы думаю,
При тебе одной сердце чувствую,
Моя милая, моя душечка.Ты взгляни, молю, на тоску мою
И улыбкою, взглядом ласковым
Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливого...
«В означенный заранее день, к вечеру, внезапно заноет-засосет в груди, места себе не найдешь в доме, – вспоминает Денис Давыдов. – Захлопнешь страницу романа или же прервешь свои записи. Снимешь с вешалки парадный костюм и спешно отправляешься в театр. Едва коснувшись фигурной резной дверной ручки, чувствуешь, как кровь закипает в висках. В полутьме делаешь робкие шаги по залу и внезапно обнаруживаешь перед собой кумира. Евгения Золотарева сидит в кресле и смотрит не на сцену, а словно куда-то вдаль. Мне кажется, что она может служить превосходной моделью русской красавицы даже самому знаменитому живописцу. Однако более всего чарует меня ее голос, плавный и задушевный, будто Евгения произносит слова нараспев».
Однажды, повстречав Золотареву в театре, пламенный поэт умолял ее дать ему разрешение на переписку. Однако Евгения, боясь огласки, вначале отказала ему. Тогда Денис Васильевич заверил ее, что будет свято хранить тайну, прежде всего потому, что он женат, а кроме того, будучи вожаком партизан, он ни разу не выдал ни одного секрета куда более важного.
Так завязалась между ними короткая переписка на французском языке.
В каждое свое послание пламенный гусар вкладывал столько любви, что провинциальная красавица была вынуждена его предостеречь: «Язык Вашего письма очень пылок и страстен. Вы заставляете меня трепетать. Зачем Вы вкладываете столько чувства в ту полную шарма и романтики дружбу, которая меня так радует?»
«Вы осмелились предложить мне дружбу?! – отвечал Евгении глубоко опечаленный Денис Давыдов. – Но, помилуйте, мой жестокий друг! Любовь, раз возникнув в жизни, никогда потом не уничтожается, не превращается в ничто. Будьте серьезнее хоть раз в жизни! Умоляю Вас! Если хотите от меня избавиться, от меня, который удручает Вас и который надоедает Вам, лучше сразу убейте меня! Не моргнув глазом воткните в сердце кинжал! И скажите: «Я Вас не люблю! Я Вас никогда не любила! Все, что было с моей стороны, это просто-напросто обман, которым я забавляюсь...»
Умом понимая всю зыбкость и безнадежность своего внезапного увлечения, Давыдов тем не менее резко отвергает дружбу Золотаревой и заканчивает свое послание новым, горячим признанием в любви:
Об этом замечательном цикле стихов Давыдова Белинский писал: «Страсть есть преобладающее чувство в песнях любви Давыдова, но как благородна эта страсть, какой поэзии и грации исполнена она в этих гармонических стихах. Боже мой, какие грациозно-пластические образы!»
Что пользы мне в твоем совете,
Когда я съединил и пламенно люблю
Весь Божий мир в одном предмете,
В едином чувстве – жизнь мою!
Пламенный гусар поражал современников непредсказуемыми всплесками, буйством и широтой своей деятельной, пылкой и страстной, истинно русской натуры.
Меж тем встречи Давыдова с Евгенией становились все реже и реже, прекращалась переписка, роман заканчивался. С угасанием светлого и незабвенного, радостного и щемяще мучительного чувства к пензенской красавице Евгении Золотаревой обрывается и бурно всколыхнувшееся вновь поэтическое вдохновение стойкого бойца. Ушла, растворилась любовь, точно луч горячего закатного солнца в осенних сумерках, однако музыка от нее в душе осталась. Сохранилась до последних дней жизни гусара. Музыка хрустальная, поэтическая, подобная песне вольного полевого жаворонка по весне, что льется, не смолкает над полями и лугами до самого вечера где-то высоко-высоко под белоснежными облаками.
В «Выздоровлении» Давыдов прощается со своей «Харитой», узнав, что она, по настоянию родных, наперекор душе принимает предложение и выходит замуж за уже немолодого драгунского офицера в отставке, участника войны 1812 года, помещика В.О. Манцева:
Давыдов покидает свои «благословенные степи» и уезжает в Москву. Оттуда он с грустью пишет Вяземскому в Петербург: «...Итак, я оставил степи мои надолго... Однако не могу не обратить и мысли и взгляды мои туда, где провел я столько дней счастливых и где осталась вся моя поэзия!»
Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей
Неотразимый, неизбежный,
И милые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть и жизнь при встрече с ней...
Исчезло все!..
Питомец муз, питомец боя!
...Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы.А.С. Пушкин
Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли!
Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие –
И весело переходили
В небытие.Марина Цветаева Генералам двенадцатого года
В первопрестольной столице здоровье отставного генерала ухудшилось, к тому же на него обрушилась здесь уйма семейных, литературных и хозяйственных дел. Приступы астмы, случавшиеся все чаще и чаще, Давыдов лечил гомеопатическими средствами. В Москве он повстречал людей новых веяний – либералов, поклонников западных мод и идей. Их высказывания и поступки разгневали пламенного гусара.
Полонскому было хорошо известно стихотворение Некрасова «Блажен незлобивый поэт...», написанное в 1852 году:
Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;
Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе –
Сей пытки творческого духа;
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.
Яков Петрович в своем стихотворении, написанном в 1872 году, по-иному развивает тему, намеченную «печальником горя народного», и создает обобщенный образ поэта-гражданина:
Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему венцы, ему привет
Детей озлобленного века.
Он как титан колеблет тьму,
Ища то выхода, то света,
Не людям верит он - уму,
И от богов не ждет ответа.
Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.
Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастия не просит.
…………………………..
Невольный крик его - наш крик,
Его пороки - наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен - и велик.
Издатель «Вестника Европы» М.М. Стасюлевич, которому Полонский предложил стихотворение, печатать его отказался, очевидно, из опаски приобрести репутацию редактора, поощряющего поэзию революционного и публицистического звучания. В письме Полонскому Михаил Матвеевич, хорошо знавший характер поэта, откровенно признавался: «Добрейший Яков Петрович, если бы не Вы мне сами отдали эти стихи, то не поверил бы, что они Ваши. Это совсем не похоже на Вас: Вы не умеете злиться и ругаться, а тут то и другое есть. Наконец, слепой увидит, к кому Вы адресуете эти строфы: это ведь личность». В ответном письме от 23 февраля 1872 года Яков Петрович возражал: «Когда я писал стихи мои, я имел в виду вовсе не Некрасова, а Истину, - ту истину, которой не угадал Некрасов, когда писал стихи свои: «Блажен незлобивый поэт»... К нему обращать стихи мои - и только к нему - было бы прилично, если бы было справедливо. Но это несправедливо, а стало быть, и неприлично. Факт тот - что в 19 веке - европейское общество сочувствует не незлобивым, а озлобленным - и стихи мои не что иное, как поэтическая формула, выражающая этот факт. Почему это так? Какая причина, что, чем глубже, смелее и всестороннее отрицание, тем более в нас восторженного сочувствия, и почему положительные идеалы, как бы крупны и блестящи они ни были, восторгом сладостным наш ум не шевелят?
Это решать уже не мое дело - это дело критики (если таковая имеется). Я сам наполовину сочувствую отрицателям, сам не могу освободиться от их влияния и нахожу, что в том есть своя великая, законная причина, обусловливающая наше развитие...
Знаете ли Вы, скажу Вам между прочим, отчего происходят мои скитания по редакциям? Вероятно, Вы думаете, что это происходит по слабости моего характера. Напротив, оттого, что у меня его слишком много. Никак не могу я к чему-нибудь или к кому-нибудь примениться - писать в одном тоне, связать мысль мою. Никому я вполне угодить не в силах, никакая редакция не станет печатать всего того, что мне вздумается написать, - каждая непременно хочет, так сказать, процедить меня. Может ли при этом сохраниться личность или характеристические черты писателя? Едва ли. Уничтожьте дурные стороны лица, сгладьте угловатости, сотрите тени - и лица не будет».
Это письмо Полонского выходит за рамки частного послания поэта издателю. В нем автор размышляет о творческом поведении писателя вообще и о своем характере в частности. Размениваться по мелочам Полонский не мог, раздвоенности личности творца не терпел и предпочитал рассылать свои произведения по разным редакциям, вместо того чтобы править их в угоду тому или иному редактору или издателю. Он понял главное в литературном (впрочем, не только в литературном) творчестве: главное - оставаться самим собой. Все остальное сделает время.
Полонский объяснил свою творческую позицию редактору-издателю «Вестника Европы» достаточно убедительно, однако осторожный Стасюлевич опубликовать стихотворение отказался.
Полагают, что первоначальный вариант стихотворении Полонского, посланный Стасюлевичу, был более острым и тенденциозным. В нем отчетливо звучали антинекрасовские мотивы.
Блажен озлобленный поэт, Будь он хоть нравственный калека, Ему так искренен привет Больных детей больного века! Кто свой художественный труд Считает суетной забавой, Кто сам в людской не верит суд, Но жадно гонится за славой -Кто желчи дорогой запас Хранит как лучший дар страданья, Кто как детей пугает нас Холодным смехом отрицанья...
Брани того, кого браним, И если ты неуязвим, Как Бог - с такими божествами Иметь мы дело не хотим...
Очевидно, переписка со Стасюлевичем заставила Полонского переработать свое стихотворение, сгладив некоторые «острые углы» и смягчив спорные места. Впервые оно увидело свет два года спустя в литературном сборнике «Складчина», вышедшем в Петербурге в 1874 году в пользу пострадавшим от голода в Самарской губернии.
Тургенев, вообще не жаловавший Некрасова, оценил стихотворение Полонского, перекликающегося с некрасовской «музой мести и печали», весьма сдержанно. В письме к автору стихотворения из Парижа от 2 (14) марта 1872 года он сообщал: «По заведенной между нами привычке быть откровенным скажу тебе, что присланное тобою стихотворение «Блажен озлобленный поэт» не совсем мне нравится, хотя и носит печать твоей виртуозности. Оно как-то неловко колеблется между иронией и серьезом -оно либо недовольно зло, либо не довольно восторженно - и производит впечатление в одно и то же время и неясное и напряженное».
Полонский с оттенком некоторой зависти к «поэту-гражданину» писал Тургеневу в 1873 году: «Изо всех двуногих существ, мною встреченных на земле, положительно я никого не знаю счастливее Некрасова. Все ему далось - и слава, и деньги, и любовь, и труд, и свобода». Сам же Полонский, кроме внутренней свободы и любви ничего не имел. А что же слава? Она, как известно, дама капризная - не каждому в руки дается.
«Скажут, что я славолюбив, - писал он в дневнике, - но у меня нет ни сребролюбия, ни сластолюбия - надо же живому человеку хоть какую-нибудь страсть иметь...»
Но, как это ни странно, шлейф дурной «славы», а вернее - откровенных сплетен тянулся за ним по всему Петербургу. Люди, хорошо знавшие добрый характер поэта, его трезвый образ жизни, поверить в эти пересуды не могли, но от злых языков разве можно было куда-то спрятаться? Полонский сам признавался: «Раз зашел я к одному доктору - кажется Красильникову, он меня спрашивает: лежал ли я в такой-то больнице?
Никогда не лежал ни в какой больнице.
Никогда?
Никогда!
Странно - там лежал недолго какой-то Полонский, который называл себя поэтом, буянил, посылал прислугу за водкой и грозился во всех газетах напечатать на больничное начальство донос или пасквиль, если оно будет стеснять произвол его».
Вот еще одно признание Полонского: «Сослуживец мой, член комитета Любовников, раз ехал в дилижансе на Парголово. В дилижансе шла речь о русских поэтах:
Все пьяницы, - сказал один из пассажиров.
А Полонский? - спросил другой.
С утра без просыпу пьян, - утвердительно сказал тот же пассажир». Яков Петрович близко принимал к сердцу подобные пересуды, но его действительная слава, слава глубоко самобытного русского поэта, с годами становилась все прочней и шире.
Эстетически чуткие критики улавливали необходимость преодоления отрицательных крайностей каждого из сложившихся поэтических направлений. Такими критиками, в частности, оказались М. Л. Михайлов и Ли. Григорьев. Недаром Л. Блок с таким упорством сближал их как поздних потомков Пушкина, наследников пушкинской культуры: «Вот еще люди, столь сходные во многом, но принадлежавшие к враждебным лагерям; по странной случайности так и не столкнула их ни разу»
В то же время такое преодоление вряд ли было возможным. В этом смысле интересна судьба Я. Полонского (1819- 1898). Поэт занял как бы среднее положение между Некрасовым и Фетом. Многое объединяет его с Фетом, прежде всего преданность искусству. В то же время искусство, природа и любовь не абсолютизировались Полонским. Более того, Полонский сочувствовал Некрасову и считал гражданскую, социальную, демократическую направленность его поэзии соответствовавшей духу времени и необходимой. В стихах «Блажей озлобленный поэт...», полемизируя с известным некрасовским стихотворением «Блажен незлобивый поэт...», Полонский засвидетельствовал всю силу «озлобленной» поэзии, сочувствие ей и даже зависть к ней. Сам Полонский собственно не был ни «незлобивым», ни «озлобленным» поэтом, довольно эклектично соединяя мотивы той или иной поэзии и никогда не достигая трагической силы ни в топ, ни в другой поэтической сфере, как то было у Некрасова, с одной стороны, или у Фета, с другой. В этом смысле, будучи поэтом сравнительно меньшим не, только по значимости своей ПОЭЗИИ, по и по вторичное ее, Полонский интересен как выражение массового, как бы читательского восприятия поэзии «титанов», о которых писал в стихотворении «Блажен озлобленный поэт...» (1872).
- Невольный крик его - наш крик, Его пороки - наши, наши! Он с нами пьет из общей чаши, Как мы отравлен - и велик. «Как мы...», но - «велик».
И стихотворные формы Полонского во многом шли от массовой демократической «фольклорной» формы-песни и городского романса.
Определяя разные поэтические тенденции эпохи-«чистое искусство» и демократическую поэзию, - нужно иметь в виду, что вообще демократизация - это процесс, который захватил всю русскую поэзию того времени в наиболее значительных ее явлениях. Наконец, такие ПОНЯТИЯ, как демократизм и народность, в поэзии 50 - 60-х годов тоже предстают в соотношениях достаточно сложных. Так, даже применительно к Некрасову, при бесспорном и постоянном демократизме его поэзии, можно говорить о сложном движении - к овладению народностью в ее общенациональном эпическом значении. В конце концов это нашло выражение в его поэмах начала 60-х годов.
Демократизм часто предстает в поэзии как разночинство, мещанство. Собственно же поэтическая народность в ее связи с национальными, народными, особенно крестьянскими истоками подчас оказывается достаточно элитарной. Вряд ли можно говорить о народности таких характерных представителей демократического искусства, как Д. Минаев, например, или И. Гольц-Миллер. В то же время постановка проблемы народности творчества графа А. Толстого представляется оправданной даже его демократическим современникам. С этой точки зрения поэт-искровец Н. Ку-рочкин противопоставлял А. К. Толстого Д. Минаеву. Он писал в связи с Минаевым: «Все новое, живое и свежее родится не для нас; наследником нашим будет другое, коллективное лицо, которое еще только недавно призвано к жизни и которого не знает ни г. Минаев, ни большинство из нас, живущих искусственною, теоретическою и, так сказать, теплично-литературной жизнью... лицо это - народ, к которому лучшие из нас, конечно, всегда относились с симпатиями, но симпатии наши почти постоянно оказывались бесплодными».
К началу 00-х годов поэзия в целом снопа вступает в полосу определенного спада, и чем дальше, тем больше. Вновь ослабляется интерес к поэзии как по месту, которое предоставляется ей на страницах журналов, так и по характеру критических оценок. Многие поэты умолкают на долгие годы. Особенно характерно, может быть, почти полное молчание такого «чистого» лирика, как Фет. И было бы поверхностным видеть причину "этого лишь в резкой критике Фета на страницах демократических изданий, особенно «Русского слова» и «Искры». Еще более, может быть, ожесточенные нападки на Некрасова на страницах реакционных изданий ничуть не ослабили его поэтического напора. Кризис в поэзии захватил отнюдь не только «чистое искусство». Во второй половине 60-х годов его столь же ощутимо переживает и демократическая поэзия. В то же время тяготевшие к эпосу поэты даже из лагеря «чистого искусства» интенсивно творят: так, возвращается к созданию баллад на народной основе А. К. Толстой.
Но настоящего расцвета достигнет лишь эпическая поэзия Некрасова. В 60-е годы пробудившаяся, тронувшаяся с места крестьянская страна, не растерявшая еще, однако, нравственных и эстетических устоев, сложившихся в условиях патриархальной жизни, и определила возможность удивительно органичного слияния социально-аналитического элемента с устной народной поэзией, которое мы находим в поэзии Некрасова этой поры.
Если домашнее задание на тему: » Блажен озлобленный поэт оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.
Свежие новости
Категории
Новости
Сочинения по теме
- 1. Образ ахматовской Музы.
2. «Тот город, мной любимый с детства...» (Петербург Ахматовой).
3. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой.
4. Пушкинская тема На рубеже нового периода в жизни страны и в своём собственном творчестве у Маяковского возникает необходимость заново пересмотреть и до Литературный язык XVII века, особенно последней трети его, отличается большой пестротой, отражая в своём словаре и синтаксисе те сдвиги, которые Экзамен: Античная литература
В развитии древнегреческой литературы замечена закономерность: некоторые исторические эпохи характеризуются преобладанием определённых жанров. VII-VIВв. до н. э. - Экзамен: Античная литература) к экзамену Античная литература",
В развитии древнегреческой литературы замечена закономерность: некоторые исторические эпохи характеризуются преобладанием определённых жанров.
Рейтинг сочинений
Ниобий в компактном состоянии представляет собой блестящий серебристо-белый (или серый в порошкообразном виде) парамагнитный металл с объёмноцентрированной кубической кристаллической решеткой.
Имя существительное. Насыщение текста существительными может стать средством языковой изобразительности. Текст стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...», в свое
Мало кто из русских поэтов так пострадал от советского литературоведения, как Некрасов. Беда его в том, что он был самый идеологически правильный, самый социально выдержанный, и в глазах нескольких поколений читателей Некрасов-гражданин бесповоротно и безнадежно затмил Некрасова-поэта. И только в последние годы он начинает к нам возвращаться - желчный, яростный, плачущий, умиляющийся, проклинающий - живой и актуальный, как мало кто другой.
В нем словно жили два человека, две личности, два противоположных начала - можно для простоты, наверное, назвать их материнским и отцовским. Отец, поручик егерского полка Алексей Некрасов, чем-то очаровал 17-летнюю провинциальную барышню Елену Закревскую. Она выскочила замуж за проезжего офицера и уехала с ним в Ярославскую губернию. Брак этот не был счастливым. Мать Некрасова была молоденькая, кроткая, любящая книги, по тогдашним меркам образованная; таких уездных барышень мы часто встречаем у Пушкина. Отец - жестокий барин, склонный к вспышкам гнева, крепостник, картежник, любитель псовой охоты, воплощение «барства дикого, без чувства, без закона». Он наводил страх и на крепостных, и на домашних. Рассказывают, что Елена Андреевна заступалась за детей и крепостных, когда муж велел их пороть, - падала в ноги; это не всегда помогало. Крестьяне вспоминали, что он бил жену.
Для Некрасова мать была воплощением всего лучшего, человечного, умного и святого; «во мне спасла живую душу ты», писал он, обращаясь к ней. Она приохотила его к чтению, сочувствовала ему и понимала его. Отец готовил мальчика к военной карьере: брал Николая с собой на охоту, учил стрелять и скакать верхом - и воспитал отличного стрелка и наездника.
Эти два начала так и уживались в нем всю жизнь: он был и барин, картежник, страстный охотник - и читатель, мечтатель, страдающая, нежная душа, влюбленная в красоту мира и уязвленная ее жестокостью.

Семья была небогата: отец проматывал остатки некогда огромного, но еще отцами и дедами разоренного состояния. Мальчики Некрасовы, погодки Андрей и Николай, постоянно играли с деревенскими детьми, как отец ни старался запретить это вредное общение; когда взрослый Некрасов приезжал на родину, в село Грешнево, он разговаривал с мужиками по-свойски: это были его друзья детства. Некрасов, кстати, гордился тем, что он никогда не владел крепостными и не жил за их счет.
В учение братьев Некрасовых отдали, когда одному было 11, а другому 12 лет. Их отправили в Ярославскую гимназию. Поселились они на частной квартире с дядькой, который присматривал за ними весьма нерадиво, так что мальчики часто прогуливали занятия и не особенно усердствовали. Одноклассник Николая Некрасова Горошков вспоминал, что будущий поэт на переменах рассказывал товарищам всякие смешные байки из деревенской жизни и его с восторгом слушали. Учились мальчики все хуже: Андрей много болел, оба много пропускали; в общем, такое учение превосходно описано в «Обломове», да и кончилось оно примерно так же - обоих забрали из пятого класса гимназии, сославшись на болезни. К 1837 году, когда Некрасов оставил гимназию, он уже был неплохо начитан и собрал целую тетрадь стихов.
Несчастненький

Старший брат, Андрей, долго и тяжело болел - и умер через год после ухода из гимназии. Николай уехал в Петербург почти сразу после его похорон. Отец поставил условие: поступить в Дворянский полк. Но мать и сын мечтали об университете.
Летом 1838 года 16-летний Некрасов явился в Петербург. Денег у него было 150 рублей. Отец, узнав, что сын собирается ослушаться, пообещал оставить его без денег, если он не подчинится и не пойдет по военной части. Сын ответил: «Если вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма». Отец прекратил присылать сыну деньги, и юноша остался без средств к существованию. А впереди была зима, голодная и холодная. Деньги, привезенные из Грешнева, таяли. Он менял квартиры, которые становились все грязнее и беднее, голодал, мерз, проедал оставшиеся деньги, пристраивал стихи в журнал «Сын отечества» (их опубликовали; молодой поэт ликовал). Готовился поступать в университет. На экзаменах летом 1839 года Некрасов жестоко провалился: словесность сдал на тройку, затем получил несколько единиц подряд и не стал сдавать остальные экзамены. Правда, поступил вольнослушателем на философский факультет, потом пробовал поступать на юридический - и опять неудачно, хотя по словесности на этот раз была пятерка.

Три года он скитался по темным углам, писал крестьянам прошения за копейки, переписывал роли, писал афиши и объявления, сочинял лубочные сказки. Зимой ходил в летнем пальто и соломенной шляпе, в дырявом красном шарфе. Когда знакомая спросила его, зачем он надел такой шарф, он резко ответил: «Этот шарф вязала моя мать». В одной семье его звали «несчастненьким» и всякий раз подкармливали остатками от обеда. Он писал потом: «Питаясь чуть не жестию, // Я часто ощущал такую индижестию, // Что умереть желал». Индижестия - несварение желудка.
Потом он простудился, долго лежал больной, а квартирный хозяин, унтер-офицер, сильно беспокоился, как бы жилец не помер, не выплатив долга в 40 рублей, еще и хорони его потом за свой счет. Так что он взял с Некрасова расписку, что тот передает ему имущество в счет уплаты долга, на случай смерти, а когда больной впервые встал с постели и вышел погулять - не пустил его обратно. Имущество, само собой, оставил у себя. Некрасов пошел куда глаза глядят, сел на какую-то скамейку, заснул и чуть не замерз во сне. Его разбудил нищий и привел к себе в ночлежку.

Кончились эти мытарства тем, что содержатель пансиона для поступления в Инженерное училище Бенецкий нанял юношу гувернером. Он же посоветовал молодому поэту издать стихи отдельной книжкой. Некрасов пошел советоваться к Жуковскому, которого совсем не знал. Жуковский сказал ему: не печатайте, потом будете писать лучше - и будет стыдно. А вздумаете печатать - снимите свое имя. Некрасов послушался и издал «Мечты и звуки» под инициалами Н.Н. Стихи были - «так он писал темно и вяло (что романтизмом мы зовем…)». Книгу никто не покупал, и опечаленный автор скупил и уничтожил почти весь тираж. Удивительно, но «Мечты и звуки» как-то попались на глаза Белинскому, который заметил: «Вы видите по его стихотворениям, что в нем есть и душа, и чувство, но в то же время видите, что они и остались в авторе, а в стихи пере-шли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость - и скука». Некрасов решил больше не писать и не печатать стихов. Он едва не запил от тоски, но хватило ума остановиться. Тоска его терзала всю жизнь, это и дар его был, и проклятие его. Вспоминают, что в тяжелые минуты он целыми днями лежал лицом к стене - он называл это хандрой: «Прибавь - хандрит и еле дышит, // И будет мой портрет готов». Но сейчас, 20-летний, он справился, пришел в себя - и решил заняться журналистикой. Познакомился с издателем Федором Кони, печатался у него в «Пантеоне русского и всех европейских театров», писал рецензии на театральные спектакли - и сам понемногу заболел театром. И начал, по предложению Кони, писать и переводить для театра пьесы - преимущественно водевили. Он даже переводил с французского, практически не зная языка - где по словарю, где догадкой, а где и фантазией восполняя пробелы. Пьесы его, которые он подписывал псевдонимом Н. Перепельский, имели успех у публики.
Некрасов с юности писал много, чтобы прокормиться, и среди написанного им много откровенной ерунды. Если допустить, что в литературе есть свои мученики и небесные покровители, то нам не найти лучшего покровителя для журналистов и литераторов, вынужденных ради заработка строчить без сна и отдыха. Тем более что когда появилась возможность - Некрасов стал самым настоящим покровителем литераторов: давал деньги в долг и просто так, отправлял в теплые края, платил огромные гонорары, опекал, кормил роскошными обедами…
К 1841 году Николай Некрасов превратился из полунищего мальчишки в литератора, сотрудника журнала, автора пьес. Теперь уже не стыдно было явиться домой - не подавленным и ничтожным, а сильным и победившим: «Лет двадцати, с усталой головой, // Ни жив, ни мертв (я голодал подолгу), // Но горделив, - приехал я домой»… Сестра Елизавета звала на свадьбу.
Но попал он на похороны: мать умерла за три дня до его приезда. Как он пережил ее смерть - неизвестно, ничего об этом не писал. Судя по тому, что и как он писал о матери - это был тяжелый удар.
И поэт истинный
Некрасов часто публиковал рецензии на литературные новинки. Их заметил Белинский и удивился: всякий раз их автор успевает написать то, что сам он еще только собирался написать. Некрасов оказался критиком резким, ехидным и близким Белинскому по воззрениям; разумеется, они свели знакомство, и началось литературное ученичество и многолетняя дружба. Белинский навсегда остался для Некрасова учителем, да еще с большой буквы: «перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени», это мы все еще со школы помним. Белинский, казалось, прекрасно знал Некрасова - как собеседника, как критика, как партнера по картам, наконец. Но первые после неудачи юношеского сборника стихи, которые Некрасов показал старшему другу через несколько лет знакомства, заставили его воскликнуть хрестоматийное: да знаете ли вы, что вы - поэт, и поэт истинный?



Это было знаменитое «В дороге», история крестьянской девочки, которую воспитали в господском доме барышней, а потом отдали в жены мужику. Первое стихотворение - и совсем зрелый поэт: и точность удивительная в передаче народной речи, и мелодия необыкновенная, и совершенно свой, ни на кого не похожий поэтический голос - и горечь, и ядовитая ирония, и бескрайняя тоска… Так в русскую поэзию ворвался народ, дотоле бессловесный. Всего несколько десятилетий назад Карамзин доказывал читающей публике, что крестьянки тоже любить умеют. Некрасовские крестьяне, в отличие от бедной Лизы, не благоухают ландышами. Живые, корявые, некрасивые люди встали во весь рост и заговорили о своей жизни, полной шекспировских страстей, изматывающего труда и безысходной муки. И оказалось, что русская поэзия может быть и такой. До сих пор она говорила сложным и умным языком высокообразованных людей. А Некрасов подчинил поэзии всю буйную, непокорную стихию русского просторечия, народного языка и народной песни.
Оказалось, поэзия справляется не только с высоким и прекрасным, но и с низким, страшным и безобразным. Некрасов - первооткрыватель эстетики безобразного в России:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах…

1864 год, практически одновременно с Бодлером - «Цветы зла» выходили с 1857-го; Некрасов, впрочем, изобретает это сам, а не подсматривает у французов - это время требует, чтобы поэзия бросила цевницу, отложила лиру и посмотрела на реальную жизнь. Так появляется некрасовская «кнутом иссеченная муза» - муза реальной жизни, муза страдания и кипящей ярости. Безобразное для Некрасова не самоцель, а средство впечатлить читателя, изумить, замучить. Некрасов читателя вообще не жалеет. Чего стоит его «толпа мертвецов», вьющихся у поезда, как пушкинские бесы, - картина для фильма ужасов. Чего стоят жуткие вороны, обрамляющие с двух сторон горький рассказ Касьяновны об умершем сыне. Здесь же, в этом же стихотворении, - фирменное некрасовское «ууууу» - уууууумер, Касьяновна, ууууумер, голууууубушка… Эти воющие «у» некрасовского стиха - «дууууумаюдууууумууусвоюуууууу» - камертон его поэзии, утробный вой бесконечного отчаяния, безысходной тоски. И конечно, это не печаль о горе народном, никто в конце концов не заставлял сына Касьяновны идти на сорок первого медведя, - не социальная тут проблематика, хотя, конечно, теперь бедной одинокой старухе никто не поправит покосившуюся избууууушкууууу и не набьет зайчиков на новую шуууубушкууууу. Но это не к социальному устройству претензии, конечно, а вопль в небеса, экзистенциальный ужас, обращенный к мирозданию: люди одиноки, голы, босы, голодны и смертны; рассчитывать не на кого, ждать нечего, кругом горе и страдание, а впереди только смерть.
Некрасов первый, наверное, кто так последовательно творит в этом ключе, первый поэт отчаяния, тоски и вселенской муки. За ним на свет появилась целая плеяда художников, поэтов и кинематографистов, творящих в эстетике отчаяния и без церемоний втыкающих в своих читателей, слушателей и зрителей пропитанные ядом ржавые гвозди; последнее произведение в этом роде, кажется, германовское «Трудно быть богом» (фильм снят по одноименной повести братьев Стругацких. - Прим. ред.). Некрасов, правда, был никакой не дон Румата, не чистый и верящий в идеалы добра и справедливости землянин в Арканаре, а плоть от плоти его и кровь от крови этого злого и грязного мира, барон Пампа и поэт Цурэн в одном лице.

Не то чтобы он был совершенно лишен радостей и видел кругом только грязь, ужас и несправедливость. Ведь замечал же - и «тончайшие сети паутины, что как иней к земле прилегли», и всей грудью вдыхал «здоровый, ядреный воздух». Это могучий, очень здоровый и веселый поэт, умеющий живописать не только язвы и раны, но и вишневые сады, «как молоком облитые», и зимний лес, трещащий под тяжкими шагами мороза, и русских баб с их спокойным достоинством. Эти русские бабы у Некрасова - вообще поразительное литературное открытие: впервые в литературе появляются обиженные, униженные, битые, поротые, закабаленные - и совершенно свободные люди. Полные собственного достоинства - и ничего не боящиеся, потому что уже нечего отнять. И не растерявшие любви, внутреннего благородства, сострадания к другим людям, благодарности даже. Матрена Тимофеевна в «Кому на Руси жить хорошо» сохраняет человеческий облик в самых нечеловеческих условиях. И в этом, наверное, тоже новаторство Некрасова, за век до Виктора Франкла задавшегося вопросом, за счет чего человек выживает в аду. И кажется, даже к выводам пришел похожим.
Практический талант
К тому времени, как Некрасов всерьез заявил о себе как о поэте, у него за плечами уже был некоторый успешный издательский и редакторский опыт. Собранный им сборник «Физиология Петербурга», положивший начало русской «натуральной школе», привлек большое читательское внимание и стал вполне коммерчески успешным проектом. «Петербургский сборник», вторая его редакторская работа, тоже был раскуплен и принес большую прибыль. Стало понятно, что Некрасов умеет вести дела. Идея создать новый журнал для нового направления носилась в воздухе; до Некрасова, однако, среди литераторов мало находилось людей с управленческой жилкой. Белинский очень ценил практичность Некрасова и всецело ему здесь доверял (во всяком случае, на этапе создания журнала); надо сказать, что именно Некрасов обеспечил Белинскому возможность в последние годы жить достойно, зарабатывать деньги и лечиться за границей.

Открыть новый журнал вряд ли было возможно - царь считал, что и так их слишком много. Поэтому перекупили старый - пушкинский «Современник», уже еле живой в руках Плетнева. Некрасов оказался редактором и издателем от Бога: нюх на таланты, деловая хватка, умение уговаривать цензоров (кормить их роскошными обедами, возить на охоту и пр.), нянчиться с авторами, писать самому все, чего недостает, и приводить в должный вид то, что необходимо исправить, - все это позволило ему создать лучший в России журнал. Вскоре среди авторов «Современника» оказались лучшие писатели: Тургенев, начинающий Достоевский, Герцен, Огарев, Гончаров, потом Островский и молодой Толстой…
На втором году издания, однако, над «Современником» собрались тучи: после французской революции 1848 года в России ужесточилась цензура. По «делу петрашевцев» были арестованы несколько близких к «Современнику» литераторов, в том числе Достоевский, в вину которому вменялось чтение письма Белинского к Гоголю. Самого Белинского, уже тяжело больного, вызывали повесткой к Дубельту в Третье отделение; Белинский, однако, уже не вставал, и его оставили в покое. Он вскоре умер. Достоевского отправили на каторгу. Цензура изымала тексты из каждого номера журнала. Чтобы спасти журнал и вовремя разослать его подписчикам, Некрасов сам писал роман, чтобы заделать цензурные пробоины, - «Три страны света», длинный-предлинный. Первый в русской литературе роман, созданный двумя соавторами: Некрасовым и Авдотьей Панаевой.
Мы с тобой бестолковые люди

Панаеву и Некрасова связывали не только соавторские отношения. Авдотья Яковлевна, дочь актера Брянского, женщина умная и талантливая, была не особенно счастлива замужем за вторым издателем «Современника», Иваном Панаевым. Писателем он был неплохим, но мужем скверным: дружеские попойки и девицы легкого поведения привлекали его куда больше, чем законная жена. Некрасов долго осаждал красавицу Панаеву и даже едва не покончил с собой из-за ее немилости. Ей было трудно решиться. Ее очень мучило положение гражданской жены; вопрос о праве женщины быть верной своему сердцу, а не брачным клятвам, еще только брезжил на горизонте общественного сознания - даже до «Грозы» оставалось довольно много лет, не говоря уж об «Анне Карениной». В конце концов всех устроил странный семейный союз: Панаевы и Некрасов жили в одном доме, Авдотья Яковлевна считалась женой Панаева, хотя, по сути, была женой Некрасова; Панаев закрывал на это глаза; Некрасов ревновал Авдотью Яковлевну к мужу; эта путаная жизнь вызывала множество кривотолков и больно ранила Панаеву. Может быть, Некрасова и Панаеву спасло то, что и сами они были литераторы, и круг их составляли литераторы, люди если и не богемные, то не такие консервативные, как калиновцы в «Грозе». Лучшие писатели собирались в салоне у гостеприимной и привлекательной Панаевой - и, как обмолвился один некрасовед, если бы в это время в доме обвалился потолок, мы остались бы без великой русской литературы.
Семейная жизнь Некрасова и Панаевой была бурной - с взаимными ссорами и упреками, дикими сценами, вспышками ревности, примирениями и нежностью. Кажется, ни он, ни она не были склонны к тихому семейному счастью.
Любовная лирика Некрасова - это тоже совершенно новое слово в русской литературе. «Как буйство нервное стихает и переходит в аппетит» - ничего себе взгляд любящего на любимую! Это неслыханная доселе лирика мрачных бытовых драм, житейских скандалов, размолвок - не праздники, но будни любви. Возлюбленная в этих стихах - не гений чистой красоты, а стоящая рядом, земная, нервная, заплаканная, истеричная женщина, которую все равно нельзя не любить.
Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.
Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья...
В 1849 году у них родился ребенок, но прожил всего несколько дней. Авдотья Яковлевна тяжело переживала смерть ребенка. Уехала за границу; в саду Тюильри она так засмотрелась на играющую девочку, что нянька забеспокоилась и стала расспрашивать, отчего она так смотрит… Со смертью ребенка что-то надломилось в их отношениях. Они сходились и расходились, и опять сходились - пока наконец Авдотья Яковлевна не ушла совсем в середине 60-х. Вышла замуж и родила дочку. Муж, правда, тоже вскоре умер. Она зарабатывала литературным трудом, жила бедно и, кажется, не очень счастливо.
Барин и плебей

Некрасова теперь считали лучшим русским поэтом. Он разбогател. Стал членом Английского клуба. Играл в карты - и часто выигрывал огромные деньги (часть выигрышей, кстати, вкладывал в журнал). Картежником он был хладнокровным и расчетливым - не на удачу рассчитывал, а на мастерство. Современников изумляло, что певец горя народного - барин, любитель вкусно поесть, картежник, охотник…
«Современник» тем временем тоже менялся: тон в нем все больше задавали молодые критики Добролюбов и Чернышевский. Ведущим вопросом стал вопрос «общего дела» - социальных реформ. В редакции наметился раскол между разночинцами-критиками и аристократами-прозаиками, скептически относившимися к «семинаристам». Резкость Чернышевского и Добролюбова, их требование, чтобы литература служила общественной пользе, вызывали негодование у основных авторов журнала. Конфликт тянулся несколько лет и кончился полным разрывом с Тургеневым, Толстым и Григоровичем. Не только редакцию, но и Некрасова раздирали пополам социальные противоречия: в нем никак не уживались важный барин и умирающий от голода Фигаро, проходимец и делец, сделавший сам себя. И в нем самом, как и в редакции, не прекращался спор о том, как писать и что писать и для чего это делать: для пушкинской гармонии или гоголевской общественной пользы. Его стихи о предназначении поэта - это спор с самим собой: и «Блажен незлобивый поэт», и «Поэт и гражданин». Он сам себя убеждает: да, божественная гармония - прекрасно, но надо же что-то делать!
Некрасов не мог не поддержать Добролюбова и Чернышевского просто потому, что они давали перспективу. Окружающая действительность так мучила Некрасова, такую тоску в него вселяла, такое желание перевернуть эту жизнь, изменить ее, что ни за что бы он не отказался от возможности прямо говорить в своем журнале, что все это надо менять. Его сжирало всепоглощающее чувство вины: не так сказал, не так себя повел, не то сделал… - и заканчивалось это бешеным, чудовищным самоедством: не так живу, кругом виноват… Может быть, дело в извечной вине образованного и состоятельного человека перед бедным и малограмотным народом - ею с легкой руки Некрасова заболели несколько следующих поколений русской интеллигенции. Может быть - в той болезненной, патологической вине, которая часто сопровождает депрессии. Некрасов искал выхода - а выход предлагали Добролюбов и Чернышевский. Они знали, что делать.
Гроза, беда!

Время реформы - время подъема. Некрасов едет в Грешнево, разговаривает с мужиками, приглядывается, задумывается. Из этих наблюдений скоро вырастет «Кому на Руси жить хорошо» - колоссальная поэма о великом переломе: порвалась цепь великая, порвалась - расскочилася…
Он пишет сейчас о мужиках и для мужиков: его «Коробейники» - это прямо для народа, он и издавал их отдельным изданием, чтобы распространять через офеней - чтобы мужики читали. Он прямо обращается в стихах к мужикам, и этого, опять-таки, до него пока никто не делал. Он первый пришел к этим новым читателям и заговорил с ними на их языке. Он задумал целую программу издания книжек для народа, и первые книжки уже успели найти своих читателей - пока всю серию его «Красных книжек» не прихлопнула цензура.
После нескольких лет «оттепели» с их мягкой цензурой над «Современником» снова сгустились тучи. Чернышевский в 1862 году был арестован за брошюру «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Добролюбов умер. Издание журнала было приостановлено цензурой на восемь месяцев - из-за «вредного направления». Возобновилось оно в 1863 году - и среди сотрудников появились Салтыков-Щедрин и Глеб Успенский, а в трех номерах подряд вышел роман «Что делать?». Дела Некрасова шли так хорошо, что он купил в 1863 году у княгини Голицыной имение Карабиху - с оранжереями и померанцевым садом.
А в 1866 году после покушения на Александра II «Современник» снова собрались закрыть. Некрасов решился на отчаянный шаг: в день, когда он получил известие, что журнал обречен, он в Английском клубе преподнес верноподданническую оду Муравьеву-вешателю, усмирителю Польши, который после покушения был поставлен во главе Следственной комиссии. Муравьев брезгливо выслушал оду и не поверил ни единому слову. Присутствующие были шокированы некрасовским поступком. «Современник» все равно закрыли, а на Некрасова обрушились волны либерального гнева. Иначе как подлецом его не называли, слали ему гневные письма и гадкие стихи, возвращали книги, рвали его портреты - словом, всячески демонстрировали свое гражданское негодование. Некрасов еле вынес эту обструкцию. «Гроза, беда! // Облава - в полном смысле слова!.. // Свалились в кучу - и готово // Холопской дури торжество, // Мычанье, хрюканье, блеянье // И жеребячье гоготанье - // А-ту его! А-ту его!» Герцен издевался из Лондона: «Браво, Некрасов, браво!» Фет обозвал «продажным рабом». Некрасов мучился виной, каялся - и обвинял своих обвинителей: «Зачем меня на части рвете, // Клеймите именем раба? // Я от костей твоих и плоти, // Остервенелая толпа».
Ему казалось, что он всех предал - и «Современник», и Белинского, и Чернышевского, и Добролюбова, и даже мать свою. Он каялся и объяснялся с обществом, и эта потребность каяться и объясняться, уже болезненная, навязчивая, не оставляла его никогда. Даже на смертном одре, вопя от боли, он снова и снова возвращался мыслями к этой чудовищной ошибке и просил прощения.
Как много сделал он, поймут
Последние десять лет его жизни были очень плодотворны: он работал над «Кому на Руси жить хорошо», издал великолепную сатиру «Современники», возродил дух «Современника» в «Отечественных записках» - и, в общем, с нуля сделал прекрасный журнал. Но сам он был уже надломлен и от надлома того никогда не оправился.
В 1870 году он полюбил необразованную простую девушку Феклу Викторову; современники неясно намекали на ее запятнанную репутацию, но доподлинно ничего не известно. Девушка была милая, кроткая и смешливая, умела справляться с бешеными некрасовскими вспышками, развеселить, привести в чувство. Некрасов назвал ее Зиночкой, да так и вошла она в историю - Зинаида Николаевна Некрасова. Она спокойно и самоотверженно ухаживала за поэтом, когда у того обнаружился рак прямой кишки - когда он вопил от боли, прогонял от себя не умеющих перевязать его медиков, не спала ночами два года подряд. Он обвенчался с ней дома за восемь месяцев до смерти - больной, еле живой, вокруг аналоя его водили за руки.
Когда он умирал, страна вдруг очнулась и поняла, как сильно она его любит. Ему простили наконец оду Муравьеву. Его засыпали поздними признаниями в любви. «И только труп его увидя, как много сделал он, поймут», - напророчил он сам себе. Увидели.
На похороны пришли толпы. Тысячи и тысячи - никто не считал. Плакали у гроба. Когда Достоевский сказал, что Некрасова можно поставить рядом с Пушкиным - кричали «выше, выше Пушкина». И с этих пор полтора века подряд говорили про общественное значение некрасовской поэзии, про демократический пафос, про горе народное, про общее дело, про борьбу. Совсем забывая о свежести его поэзии, о первобытной силе, о невероятной красоте некрасовской мелодики, о яркой и лаконичной ее выразительности… Гражданин победил поэта.
В этом стихотворении воспевается поэт, а также его озлобленность, как свойство, присуще не только ему, но всем его современникам.
С первых строк автор заявляет что поэт, будь он даже злобным, блаженен, то есть почти свят. Ему следует дарить венцы как символ чествований. Поэта Полонский сравнивает с нравственным калекой. Получается, что поэт пережил духовную травму, а, возможно, и не одну… Его окружение (всех людей, вообще) Полонский называет детьми века, тоже озлобленного. Это такое злое время, по мнению автора.
Во второй строфе раскрывается, чем же занимается герой в своей поэтической деятельности. Конечно, поэт ищет свет (выход) во тьме. Видимо, это тьма невежества, злости людской… Он не верит людям, не верит в богов. Единственное, что у него осталось – ум, рациональность. Да, такой век – потеря религиозности, а также общности, объяснение всего логическими выкладками.
Тема эта развивается в третьей строфе. Поэт тревожит людей «солидных», то есть их сон. Люди будто спят, а не живут, но иногда стихотворная строчка может так задеть, что они проснутся для настоящей жизни. Вокруг героя одни противоречия, и он страдает. Здесь использована метафора «ярмо сомнений», которая подчеркивает их тяжесть. Эпитет «пророческий» в отношении стихов очень важен для понимания, ведь поэты и писатели часто выступают «предсказателями». Люди удивляются, спустя годы, как поэт предугадал события. Но мыслящий человек просто видит совсем не радужные перспективы, предупреждает других, но те не всегда готовы что-то изменить.
В четвертой строфе наметился перелом. Теперь речь идёт о том, что поэт не делает. Не переносит он масок, то есть обманных впечатлений, которое хотят произвести люди. Он не просит поменять свое счастье на что-то материальное. Но главное, что он любит всех всем сердцем.
Эта мысль находит продолжение, ведь в любви этой – будущие идеи, а в них – спасение. Важны тут и страсти, и дух противоречия поэта-творца. Фразы здесь становятся рублеными определениями.
Поэт невольно кричит, но этим он выражает затаённую людскую боль. Этой способностью он и велик.
Анализ стихотворения Полонский Блажен озлобленный поэт по плану
Возможно вам будет интересно
- Анализ стихотворения Первый снег Брюсова 7 класс
Произведение относится к пейзажной лирике, однако в отличие от традиционных стихов данного жанра в качестве природного предмета восхищения для поэта становятся не окружающая деревенская природа, а картина заснеженной Москвы.
- Анализ стихотворения Дед Есенина
Тяжелый труд, труд на земле всегда был почитаем Есениным, как минимум, поэт видел в такой деятельности нечто подлинное и настоящее. Стихотворение Дед описывает будни простого рабочего человека, к таким простые сельские парни всегда обращаются дед