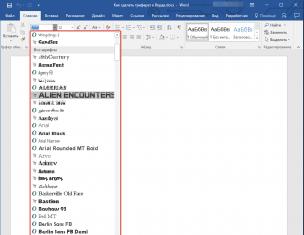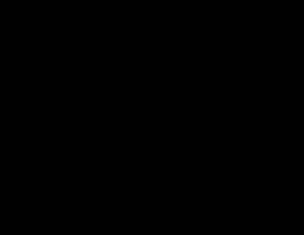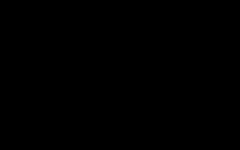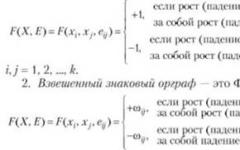Книга известного западногерманского философа Г.-Г. Гадамера (р. 1900) посвящена одному из распространенных сегодня в западной мысли философских направлений - герменевтики - теории понимания и интерпретации текстов, исторических памятников и феноменов культуры. В ней дается основополагающее для всей современной герменевтики изложение ее истории, систематика принципов и проблем, намечены выходы герменевтики в методологии гуманитарных наук.
Источник: www.filosof.historic.ru
Об авторе: Га́дамер Ганс-Георг (нем. Hans-Georg Gadamer; 11 февраля 1900, Марбург - 12 марта 2002, Гейдельберг) - немецкий философ, один из самых значительных мыслителей второй половины 20 в., известен прежде всего как основатель «философской герменевтики». Родился 11 февраля 1900 году в Марбурге. еще…
С книгой «Истина и метод» также читают:
Предпросмотр книги «Истина и метод»
WAHRHEIT
UND METHODE
Grundzuge einer phiosophischen Hermeneutik
von
HANS-GEORG GADAMER
G. B. Mohr (Pau Siebeek) Tubingen
Х:Г ГАДАМЕР
истина и метод
ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Перевод с немецкого
Общая редакция
и вступительная статья
доктора философских наук
Б. Н. Бессонова
Москва, „Прогресс"" 1988
ББК 87.3(4Ф) Г 13
. S (9 S
Перевод:
Журинская?. ?.- Часть первая Земляной С. ?.-^ Часть вторая: I. 1, 1. 2, 1. 3
Рыбаков A.A.- Введение; Часть вторая: II. 1, II.2, II. 3; Часть третья Бурова И. Н.- Экскурсы I-VI; Герменевтика и историзм; Послесловие
m
Гадамер Х.-Г.
13 Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем./Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова.- М.: Прогресс, 1988.-704 с,
Книга известного западногерманского философа Х.-Г. Гада мера (р. 1900) посвящена одному из распространенных сегодня в западной мысли философских направлений - герменевтике - теории понимания и интерпретации текстов, исторических памятников и феноменов культуры. В ней дается основополагающее для всей современной герменевтики изложение ее истории, систематика принципов и проблем, намечены выходы герменевтики в методологии гуманитарных наук.
Рекомендуется философам, социологам, историкам культуры, всем интересующимся проблемами развития познания.
„ 0301010000-739 ~006(tf) 88
-88
ББК 87.3 (4Ф)
ISBN 5-01-001035-6
Редакция литературы но гуманитарным наукам
(С) Перевод на русский язык. Вступительная статья - издательство «Прогресс», 1988
Герменевтика. История и современность
В буржуазной философии, буржуазной общественной мысли всегда шла острая борьба между позитивистски ориентированными течениями, претендовавшими на абсолютно рационалистическое описание окружающего мира и отвергавшими в этой связи всякого рода «метафизические» проблемы, такие, в частности, как проблема смысла жизни, бытия человека в мире, добра, справедливости, ответственности и т. д., и антропологически ориентированными концепциями, которые, напротив, на первый план выдвигали именно «метафизические» проблемы, стремились объяснить смысл и значимость жизни.
Эти две взаимоисключающие тенденции тем не менее сосуществовали, переплетались и взаимно дополняли друг друга, хотя на том или ином этапе развития истории и отражавшей суть исторических процессов философии та или иная тенденция приобретала преимущественное влияние.
Вполне понятно, что, когда буржуазия была на подъеме4, была восходящим классом, она апеллировала к Разуму, к естествознанию, другим научным дисциплинам; она верила в их революционизирующее влияние на развитие индустриализации, на экономическое развитие капиталистических стран.
Однако уже конец XIX начало XX века показали, что капитализм вступает в историческую эпоху своего глубокого кризиса. Это обстоятельство наложило неизгладимый отпечаток на все буржуазное мышление. Оно породило разочарование в возможности «разумного» постижения мира, подорвало веру в неограниченное могущество разума, науки.
В буржуазной общественной мысли, в буржуазной философии вновь появилась потребность в постановке и
5
выяснении мировоззренческих, «метафизических» проблем, общих принципов бытия человека в мире.
При этом выдвижение мировоззренческой проблематики, утверждение значимости жизни многие буржуазные философы, и прежде всего приверженцы «философии жизни», сопровождали требованием пересмотра роли «чистого разума», уменьшения его значения в объяснении, оценке «жизни». Любая рациональность отвергалась как скучная и трезвая расчетливость, игнорирующая все «высокое», все этическое и эстетическое. Логико-дискурсивному мышлению противопоставлялось некое иррациональное созерцание, интуиция и т. д.
Подобные взгляды в свое время уже отстаивали романтики и Шеллинг. В частности, Шеллинг, критикуя ограниченность метафизического метода, оперирующего формально-логическими средствами, утверждал, что подлинное знание должно быть абсолютно «свободным», что это - такое «знание, к которому не ведут ни доказательства, ни умозаключения, ни вообще какое-либо понятийное опосредование, но только созерцание»1.
Вслед за романтиками и Шеллингом Шопенгауэр также придавал непосредственному созерцанию, интуиции более высокое значение по сравнению с разумом. С его точки зрения, интеллект достаточен для понимания внешних связей между вещами, настоящее же познание «вещей самих по себе», познание их сути оказывается возможным только с помощью интуиции.
Позднее подобные взгляды развивал и Ф. Ницше, один из основоположников «философии жизни». Известно, что в своих истоках «философия жизни» была реакцией на факт растущего отчуждения индивида в буржуазном обществе, была выражением «возмущения» «жизни» против «упадка» человека в этом обществе; однако, выдвигая на первый план «жизнь» личности, значение индивидуального обращения человека к миру, приверженцы «философии жизни» доходили в своих утверждениях до крайности: заявляли, что объективного знания о мире вообще не существует, что представление о мире - это всегда интерпретация мира данным субъектом.
Так, Ницше доказывал, что познавательный аппарат человека устроен отнюдь не в целях рационального познания, что мир «истолковывают» влечения человека и что всякое влечение имеет свою «перспективу». Поэтому, по
1 S с h e i Q g F. Samtiche Werke, i. Abt. Stuttgart, 1856, S. 369.
2 См: Шопенгауэр А. Поли. собр. соч., т. 2, с. 189 -198.
Ницше, мир не имеет какого-нибудь одного смысла, он имеет бесчисленные, зачастую противоположные толкования и смыслы (перспективы). Обосновывая и защищая иррационализм, Ницше утверждал, что без мистической интуиции, без мифов, без иллюзий человек и человечество в целом не могут обойтись1. Эти же взгляды затем «обосновывал» А. Бергсон. Он считал, что сфера деятельности интеллекта ограничена мифом мертвой материи, что же касается духа, «жизненного порыва», якобы обусловливающего всякое творчество, в том числе и социальный прогресс, то здесь интеллект оказывается абсолютно непригодным. Жизнь, живое невозможно понять с помощью научных средств; чтобы понять их, необходимо совершить насилие над разумом, пойти против «естественного течения» нашей мысли. Нужен «жизненный порыв», иррациональная интуиция, религиозное озарение и т. д.
Аналогичные по сути иррационалистические взгляды исповедовали X. Ортега-и-Гассет, О. Шпенглер, позднее М. Хайдеггер и другие.
Поворот к иррационализму, антиинтеллектуализму в буржуазном обществе, в сущности, был неизбежен. Желают или не желают это признать буржуазные идеологи, для них обращение к разуму опасно. Опасно, поскольку развитие научного познания, вскрывая исторически преходящий характер буржуазных общественных порядков, противоречит интересам буржуазии. Отсюда и вытекает поворот буржуазной общественной мысли к иррационализму и интуиции; поскольку наука обнаруживает историческую неизбежность заката капитализма, постольку его апологеты (вольные или невольные) провозглашают «закат» пауки, «кризис» научного теоретического мышления и т. д. Подобные приемы Декарт в свое время в «Рассуждении о методе» весьма выразительно сравнивал с действиями слепого, который, чтобы оказаться в равном положении со своим противником - зрячим, стремился замести его в глубокий, темный подвал.
Усиление иррационалистических тенденций в современной буржуазной философии объективно обусловлено также и тем, что государственно-монополистическая «рационализация» производства и всех других сфер общественной жизни капитализма приводит к такой глубокой опустошенности внутренней жизни человека, какой никогда не было прежде. Конечно, это вызывает все растуСм.: H и ц ш е Ф. Поли. собр. соч., т. IX, с. 224 и ел.
7
щий протест против подобной «рационализации». Однако все дело в том, что буржуазное мышление не в состоянии адекватно разрешить все эти проблемы; отвергая капиталистическую рационализацию, оно вообще отказывается от научно-рационального мышления и образующийся «духовный вакуум» стремится восполнить обращением к интуиции, мифотворчеству, другим «ценностям», ориентированным в прошлое, например к религии.
Так, М. Хайдеггер требовал возвращения к мета-научному, метатехническому мышлению и заявлял, что философия и наука несовместимы. «Философия,- пишет он,- никогда не возникает из науки и через посредство науки. Она находится в совершенно другом строе духовного бытия. В том же строе, что и философия, находится лишь поэзия. Мышление начинается только тогда, когда оно осуществляется вопреки так называемому разуму, который в течение веков является самым яростным противником мышления» 1. Сказано ясно и определенно.
И хотя рационалистические течения и поныне существуют в буржуазной философии, тем не менее ее доминирующей тенденцией в современную эпоху является именно и p p а ц и о н а л и с т и ч ее к а я, ант и и н т е л л е к т у а л и с т с к а я н a n p а в -лен ноет ь.
Это находит свое выражение и в воззрениях сегодняшних приверженцев «философской герменевтики» (или «герменевтической философии»), ведущим представителем которой выступает Ханс-Георг Гадамер, автор предлагаемой вниманию советского читателя книги. Прежде всего что такое герменевтика? Как известно, в древнегреческой мифологии посредником между богахМИ и простыми смертными был Гермес; он должен был истолковывать людям повеления богов, а богам - просьбы людей. Отсюда и ведет свое происхождение термин «герменевтика», первоначально означающий искусство толкования изречений оракулов, древних текстов, знаков, смысла чужого языка и т. д. и т. п. В средневековье герменевтика была неразрывно связана с теологией, с толкованием сочинений «отцов церкви». В период Ренессанса, появилась собственно филологическая герменевтика, призванная критически исследовать религиозные тексты, освободить их от искажений, вернуть им первоначальный смысл. Философская герменевтика возникла к середине XIX века. Ее основоположником был Ф. Шлейермахер. Он рассматривал герменевтику как меН е i (o g g е г M. Was heisst denken? Tubingen, 1954, S. 134.
8
тод всех н а у к о д у? с (г у м а н и т a p н ы? наук), д о к а з ы в а я, что с помощью психологического «вживания» можно проникнуть во внутренний мир авторов древних текстов, любых исторических деятелей и на этой основе реконструировать исторические события, понять их более глубоко, чем их осознавали сами участники этих событий.
Позднее, в конце XIX века, философская герменевтика в лице В. Дильтея соединилась с «философией жизни». Выступая с позиций критики «исторического разума», Дильтей доказывал, что основная проблема понимания истории - это прежде всего интуитивное переживание. « ? а к т ы, относя щ и е с я к о б щ е с т в у, м ы м о ж е м и о н я т ь т о л ь ко изнутри, только на основе восприятия наших собствен-тих состояний... С любовью и ненавистью, со всей игрой наших аффектов созерцаем мы исторический мир. Природа же для нас безмолвна, она нам чужда, она для нас внешнее. Общество - наш мир» - подчеркивает Дильтей. По мнению Дильтея, «жизнь»- это прежде всего духовный процесс, то, что человек думает, чувствует и хочет; «жизнь», «переживание»- это постоянный поток ощущений, желаний, восприятий, представлений и т.п., который мь^не можем познать умом, с помощью рациональных категорий мышления. Главное здесь - внутренний психологический опыт, интуитивное переживание фактов сознания 2.
Что касается Га дам ера, то он в рассматриваемой книге стремится отмежеваться от субъективизма своих иредшественников, подчеркивает «принципиальное» отличие современной философской герменевтики от традиционной. Если прежняя герменевтика выступала с претензией быть методологией наук о духе, то Гадамер провозглашает герменевтику универсальной философией нашего времени. Она.призвана, утверждает он, дать ответ на основополагающий философский вопрос: как возможно понимание окружающего нас мира, как в этом понимании воплощается истина бытия? Она должна выступать как самосознание человека в современную эпоху науки.
Констатируя растущие признаки «новой волны технологической враждебности к истории», засилья технических экспертов, выдвижения на авансцену «позитивистского самопоцИМания», оттеснившего на задний план « политиDithey W. Gesammete Schriften, Bd. V. Stuttgart, 1957, S. 60-61.
Правда, Дильтей иногда отходит от субъективно-идеалистической позиции и трактует «дух» -в смысле гегелевского «объективного духа» (Ibid., S. 60 ff).
9
ческий разум» и т. п., Гадамер делает непререкаемый вывод о том, что «напряжение» между истиной и научным методом «имеет непреходящую актуальность» (с. 616 наст, изд.). Если в естествознании главное - применение индуктивных методов, то науки о духе (гуманитарные науки) не могут измеряться по масштабу прогрессирующего познания закономерностей, доказывает Гадамер. Идеал исторического понимания коренится не в том, чтобы познать, как вообще развиваются люди, народы, государства, а в том, чтобы понять, каковы этот человек, этот народ, это государство, каково было их становление и т. д.
По Гадамеру, «то, что делает гуманитарные науки науками, скорее можно постичь, исходя из традиционного понятия образования, чем из методических и ne и современной науки» (с. 59). Быть образованным - значит соизмерять свои личные цели и интересы с общими целями и интересами, значит обладать способностью к абстрагированию: от частного и особенного переходить к общему, пишет Гадамер, апеллируя к Гегелю. «Подъем к общему» - вот суть образования, вот суть гуманистической традиции, делающей человека подлинно духовным существом.
Гадамер, конечно, прав, когда отвергает утилитарный подход к науке 1 , ориентацию на «голую» эффективность полученных достижений (правильно лишь то, что функционирует), когда утверждает, что любое познание имеет социально-политическое значение, что наука должна знать свои собственные границы и обусловленность, что она не может быть нейтральной, что ученый несет ответственность перед обществом за свои научные открытия, что человек должен быть духовным существом, думать об «общем», а не о «частном».
Действительно, наука уже с древних времен была орудием подчинения и порабощения: господствующие классы злоупотребляли наукой, ставили ее на службу
1 В свое время уже Маркс указал на ограниченность свойственного капитализму утилитарного подхода к науке. Капитализм, отмечал К. Маркс, «создает систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств, систему всеобщей полезности; даже наука, так же, как и все физические и духовные свойства человека, выступает лишь в качестве носителя этой системы всеобщей полезности, и нет ничего такого, что вне этого круга общественного производства и обмена выступало бы как нечто само по себе более высокое. как правомерное само по себе» (M a p к с К. и Э н г о л ь с Ф, Соч., т. 46, ч. I, с. 386-387).
10
своим целям. Но ведь сама по себе наука не может нести ответственность за то, каким образом ее используют те или иные социальные классы. Если эксплуататорские классы стремятся сделать науку инструментом подавления и порабощения людей, то ведь и эксплуатируемые массы в своей борьбе за свободу нуждаются в науке, в научном познании, причем еще в большей степени. Во всяком случае, социализм невозможно построить, не опираясь на достижения науки.
И, кстати сказать, многие ученые с глубоким чувством ответственности относились и относятся к своей деятельности, понимают ее огромное социально-историческое значение, со всей решительностью отвергают тезис, что в науке можно ограничиваться лишь тем, чтобы вкушать сладкий плод познания.
А. Эйнштейн, Н. Бор, М. Борн и другие крупнейшие ученые всегда подчеркивали, что практическое применение результатов научных исследований настоятельно требует от ученых снова и снова обращаться к нравственным проблемам. Известный западно-германский публицист и ученый Р. Юнг в своей книге «Ярче тысячи солнц» рассказывает о том, как Э. Ферми, увидев первый взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне, воскликнул, обращаясь к своим коллегам и ученикам: «Вы все говорите, что это ужасно, а я не понимаю почему. Я нахожу, что это прекрасный физический эксперимент!» Юнг осудил подобную позицию; ученый должен знать, к каким последствиям приведет его открытие. Он должен бороться «за зрячий прогресс», за прогресс, при котором хорошо известно, «что впереди». В другой своей книге, «Лучи из пепла», посвященной жертвам атомной бомбардировки американцами японского города Хиросимы, Юнг пишет, что сейчас можно встретить немало людей (в том числе и в самой Хиросиме), которые «спрашивают: а не подвести ли нам черту под прошлым? Не попытаться ли изгладить из памяти «тот день»? ...По их мнению, вид атомных развалин понапрасну наводит на грустные мысли новых граждан Хиросимы - энергичных дельцов, с оптимизмом взирающих в будущее». Во всем мире, продолжает Юнг, «"поборники забвения", втихомолку строящие расчеты на планах новой войны, наверное, уже могут вести себя так, словно последняя война стала достоянием истории». Но здесь, в Хиросиме, предостерегает он, «прошлое еще слишком свежо, о нем беспрестанно напоминают все новые и новые вспышки лучевой болезни, напоминают люди, казалось, уже помилованные смертью, но через много
11
лет вновь брошенные в пучину страданий. Хиросима зовет к миру... потому что она дает - пусть и весьма слабое - представление о том, как будет выглядеть наша планета в случае атомной войны» 1 . Юнг призывает людей бороться против угрозы атомной войны, ставя себя и всех перед совершенно четкой нравственной чертой: «Что сделали мы, люди, пережившие вторую мировую войну, для того, чтобы оправдать свое спасение? Долгие годы я, так же как и многие другие мои современники, совершенно бездумно воспринимал этот факт; мне казалось само собой разумеющимся, что меня пощадила судьба. В Хиросиме я познакомился с жертвами атомной бомбы, И тут я начал понимать, какое новое несчастье надвигается на человечество. G этих пор я знаю, что мы, поколение тех, кому «и на этот раз удалось избежать объятий костлявой», должны приложить все силы для того, чтобы спасение наших детей не было такой же чистой случайностью, как наше собственное спасение. Пусть каждый найдет свой путь для борьбы за сохранение жизни на Земле. И пусть он относится к этому очень серьезно» 2.
И сегодня, когда империализм может развязать термоядерную войну, грозящую уничтожить все человечество, как никогда серьезно стоят вопросы об ответственности ученого, о социальных последствиях результатов его открытий, вообще о смысле жизни и деятельности людей, об истине, долге и т. п.
Несостоятельность рассуждений Гадамера и других герменевгиков по проблемам ответственности ученого, смысла жизни людей, истины, взаимодействия науки и философии и т. п. заключается в том, что они абсолютно разрывают науку и философию, научный метод анализа и философскую истину. С точки зрения Гадамера, именно философия, и только философия, включает фактор моральной и социальной ответственности, поскольку лишь она дискутирует о настоящих целях человеческого бытия, о его историческом происхождении и о его будущем. Причем, по мнению герменевтиков, философский опыт не входит в логику науки, лежит вне науки, предшествует ей, его нельзя верифицировать средствами научной методологии. Подобно опыту искусства и религии, он базируется прежде всего на интеллектуальном созерцании, на интуиции.
1 Ю н г Р. Лучи из пепла. М., 1962, с. 286.
2 Там же, с. 290.
12
Во всяком случае, Гадамер открыто провозглашает неспособность разума и науки познать жизнь, мир истории. То, «что является жизненным... в действительности никогда по-настоящему не познается предметным сознанием, напряжением разума, который стремится проникнуть в закон явлений. Жизненное - не такого свойства, чтобы можно было извне достичь постижения жизненности. Напротив, единственный способ постичь жизненное - это постичь его изнутри» (с* 304).
В противовес научной методологии Гадамер апеллирует к этике Аристотеля. Ведь нравственное знание, как его описывает Аристотель, очевидным образом не является предметным знанием, то есть знающий не стоит перед фактами, которые он только устанавливает. Напротив, он непосредственно затронут тем, что он познает, это есть нечто такое, что он должен делать. Именно эстетическое переживание, вкус, подчеркивает Гадамер, есть непосредственное определение конечности единичного с учетом бесконечного целого; причем это никак нельзя проследить и доказать, это нужно чувствовать.
Отвергая объективные, научные методы познания истории, познания «жизни» как результат некоего «ложного опредмечивания», Гадамер вместе с тем стремится отмежеваться от откровенного субъективизма, присущего Ф. Шлейермахеру и В. Дильтею. Как известно, Шлейер-махер, подобно романтикам, доказывал, что понимание исторических событий возможно лишь на основе психологического «вживания» во внутренний психологический мир исторических деятелей. В том же духе и Дильтей полагал, что для понимания истории главное - проникнуть в субъективный мир исторических персонажей. Что катается самих исторических событий, то они, по Дильтею, чтобы быть «интересными» для историка, должны быть в достаточно и с т е? е н и « м о? ? в ы м и ». Только тогда м о ж н о будет исключить субъективное участие исследователя. !"·«;«;С точки зрения Гадамера, ждать «омертвления» исторического события - это парадокс, научно-теоретическое соответствие старой моральной проблеме о том, можно ли назвать кого бы то ни было счастливым до его смерти.
По мнению Гадамера, восстановление изначальных
13
обстоятельств, как и всякая реставрация,- это наивное и бессильное начинание перед лицом историчности нашего бытия. Восстановленная, возвращенная из отчуждения жизнь не тождественна жизни изначальной. Точно так же герменевтическая деятельность, для которой пониманием называлось бы восстановление первоначального,- это только сообщение «умершего смысла». По Гадамеру, подлинное понимание является не только репродуктивным, но всегда также и продуктивным отношением. Оно требует постоянного учета исторической дистанции между интерпретатором и текстом, всех исторических обстоятельств, непосредственно или опосредованно связывающих их, взаимодействия прошлой и сегодняшней духовной атмосферы; это не только не затрудняет, а, напротив, способствует процессу понимания истории.
Вывод Гадамера во многом правомерен. Как правомерна и его апелляция к Гегелю, который в свое время справедливо подчеркивал, что сущность исторического духа заключается не в восстановлении прошедшего, а в мыслящем опосредовании с современной жизнью. Это опосредование, по Гегелю, ничуть не имеет какого-либо внешнего или дополнительного отношения. Оно - путь к истине.
Во всяком случае, историк, изучая произведения того или иного автора, те или иные исторические события, должен учитывать, что авторская рефлексия, размышления, свидетельства участников исторических событий не всегда адекватны содержанию произведения, духу самого исторического события. Достаточно, например, вспомнить О. Бальзака, который в предисловии к «Чело-в е ч е с к о и к о м е д и и » с о в о p ш е н н о о? ? е д е л с н н о у к а а ы в а л: «Я пишу при свете двух вечных истин: религии и морали,- необходимость той и другой подтверждается современными событиями, и каждый писатель, обладающий здравым смыслом, должен пытаться увести нашу страну по направлению к ним» ] . Однако если обратиться к реальному содержанию произведений Бальзака, то он отнюдь не выступает в них как защитник католицизма и монархии. В «Человеческой комедии», писал Ф.Энгельс, Бальзак «дает нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества», особенно «парижского света», описывая в виде хроники, почти год за годом, с 1816 по 1848 г., усиливающееся проникновение поднимающейся буржуазии в дворянское общество,
Б а л ь з а к О. Собр. соч. в десяти томах, т. 1. М., 1982, с. 43.
14
которое после 1815 г. перестроило свои ряды и снова, насколько это возможно, показало образец старинной французской изысканности.*Он описывает, как последние остатки этого образцового, для него, общества либо постепенно уступали натиску вульгарного богача-выскочки, либо были им развращены... Вокруг этой центральной картины Бальзак сосредоточивает всю историю французского общества... Но при всем этом его сатира никогда?,?- была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех мужчин и женщин, которым он больше всего симпатизи-I , жил,- дворян» 1 .
Таким образом, Гадамер прав, когда в противовес П1,!ейермахеру и Дильтею, односторонне ставящим интер-нретагора в историческую ситуацию автора текста и игнорирующим tro собственную историческую обусловленность, требует сближения и слияния «горизонтов» (исторических ситуаций) того и другого. Понимание - это процесс слияния горизонтов, подчеркивает Гадамер, Лишь отлиапне интерпретатором собственной исторической >Л,мовленноетп, проникновение в историческую ситуа-ц чо, подлежащую пониманию, указывает он, способствует преодолению как его собственной партикулярности, так чартикулярности текста, приводит истолкователя к (
!!«· как все это осуществит!,? Прежде всего необхо-.??"» учитывать, что интерпретатор, историк, подходи ь К"ыту, всегда уже имеет определенное предварительное ein .нжимание (нредгн>ч«п"ание), детерминированное усло-п.";»1н (семья, общество, государство), в которых он;?.·?;??. >)то предпонимание имеет характер предрассудка. П;" ,ном Гадамер отклоняет традиционно негативное i»>".«.»пичше к предрассудку как к чему-то, чего нужно и;·")» ",«ть, чего необходимо стыдиться. Исторический анализ и " · понятии, пишет он, показывает, что только благо-и: ···" Просвепимшк) понятие предрассудка получило «·," ;>",г!ное д.1И нас?? рнцате.чыкх* значение, (]ц по себе??· "рассудок означает суждение, которое выносится до s " "тгельной проверки всех?????,????? определяю!цих ^ "".ч юн. ij) методике нраноговорония пре;1.[)ассудок озна-ч·"»1: ? П[)аведлив(к4 jXMnenne до вынесения нодлипно1"о >"»-M a p к с К. и Э н г о л ь с Ф. Соч.. т. 37, с. 30 -37.
15
и положительно, и отрицательно (с. 322 - 323).
Именно здесь находится тот пункт, где «должен критически вступить в дело опыт исторической герменевтики,- подчеркивает Гадамер.- Преодоление всех предрассудков, это наиболее общее требование Просвещения, само разоблачает себя в качестве предрассудка, пересмотр какового впервые открывает путь для правильного понимания той конечности, которая господствует не только над нашим человеческим бытием, но и над нашим историческим сознанием» (с. 328). По Гадамеру, предрассудки в гораздо большей степени, чем рефлексия, суждения и т. и., составляют историческую действительность бытия человека. Они законны, неизбежны, коренятся в объективных исторических условиях. И дело, следовательно, отнюдь не в том, чтобы отбросить эти предрассудки; их надо осознать, учесть, привести, так сказать, во взвешенное состояние. И если избавляться, то только от ложных предубеждений. Но чтобы узнать, какие предубеждения являются ложными, чтобы избавиться от отрицательных предрассудков, необходимо постоянно вести диалог с изучаемым преданием, текстом, событием, постоянно вопрошать традицию. Пбо предание, событие, традиция, по Гадамеру, есть не просто свершившееся, которое мы в процессе опыта учимся познавать; оно само с нами заговаривает, подобно некоему «Ты». Гадамер подчеркивает, что в начале исторической герменевтики должно стоять разрушение абстрактной противоположности между традицией и историей, между историей и знанием о ней. Действия живой традиции и действия исторического исследования образуют деятельное единство (с. 336).
Тот же, кто, «полагаясь на объективность своих методов и отрицая свою собственную историческую обусловленность, мнит себя свободным от предрассудков, тот испытывает на себе могущество этих предрассудков, господствующих над ним без всякого контроля с его стороны, подобно некоей vis a tergo...
Дело здесь обстоит так же, как в отношениях между «Я» и «Ты». Тот, кто путем рефлексии выводит себя из двусторонности этих отношений, изменяет их, разрушая их нравственную обязательность» (с. 424).
Бесспорно, у Гадамера есть все основания утверждать: человек, чтобы понять то или иное явление действительного мира истории или истолковать исторический доку-i мент («текст», по терминологии приверженцев герменев-| тики), должен обладать определенного рода «историче-*
16
ским пониманием», «предпониманием» ; он должен понять историческую ситуацию, в которой живет и действует, должен уяснить имеющиеся в нем самом «предрассудки», должен стремиться понять исторические обстоятельства, в которых развертывались события прошлого, то есть «вжиться» в «текст», «чувствовать» его и лишь на этой основе истолковывать, интерпретировать, оценивать исторические факты, события и процессы. То есть к истине исследователь должен идти, ведя постоянный «диалог» с «текстом», с окружающим сегодняшним миром и миром истории.
Конечно, речь в данном случае вовсе не идет о том, чтобы историк, ведя «диалог», постоянно «переписывал» историю. Но важно помнить, что история - не «мертвые камни». Исторические события продолжают воздействовать на нас с открытием новых фактов, новых документов. С другой стороны, современные задачи могут высветить новые грани в давно минувшем. А главное - диалог с историей необходим для понимания сути именно современных явлений. Ф. Энгельс не раз подчеркивал, что научное понимание современности не может быть результатом изолированного рассмотрения данного исторического бытия; чтобы осмыслить настоящее, мы должны постоянно обращаться к прошлому 1.
Выдающийся русский историк XIX века Грановский справедливо писал, что история может быть равнодушна к орудиям, которыми она действует, но человек не имеет права на такое бесстрастие. С его стороны оно было бы грехом, признаком умственного или душевного бессилия. Приговор должен быть основан на верном, честном изучении дела. Он произносится не с целью тревожить могильный сон подсудимого, а для того чтобы укрепить подверженное бесчисленным искушениям нравственное чувство живых, усилить их шаткую веру в добро и истину 2.
Но что значит «приговор» должен быть основан на верном, честном изучении дела? Доктор филологических наук М. Л. Гаспаров отмечает: «Традиционный ответ таков: комментировать, оценивать историческое событие, документ так, чтобы читатель воспринимал перевод, интерпретацию исторического документа, как современники воспринимали оригинал». По мнению М. Л. Гаспа1 См.: Маркс К. и Э н г с л ь с Ф. Соч., т. 20.
См: Грановский Т. Н. Соч., М., 1900; его же: Лекции но истории средневековья. ?«? AQ&»-~- *--·*- --*- - - ««··-^ «***-^*
.; |?т i " . (*у, >1 .Т*"У*1
рова, этого недостаточно. Ибо, например, «античность - это эпоха протяжением в тысячу лет, и начало ее непохоже на середину и конец, а если в наших переводах и Гомер, и Эсхил, и Платон, и Вергилий будут ощущаться нами как наши современники, то ведь они будут казаться современниками и друг другу, а это сольет их в такой нивелированно-безликий образ «античности вообще», который заведомо не отвечает никакой реальности». И далее, как же все-таки комментировать, как доносить перевод до понимания читателя? «Теперь античность отодвинулась от нас, потеряла свое привилегированное место в европейском духовном мире, стала такой же экзотикой, как (не столь уж давно) арабская или китайская культура. Нынешний комментатор скорее может предполагать, что читатель случайно знает, что такое Геракл, Венера или Дельфы, но вряд ли умеет связать эти имена друг с другом или с любым античным именем - не умеет собрать из них систему античной культуры». Поэтому дать комментарий «не к частностям, а к целому, представить памятник не очередной иллюстрацией к какому-то (будто бы) заранее известному образу античности, а первым вступлением к чему-то еще неизвестному, далекому и сложному, что называется античной культурой»,- подчеркивает М. Л. Гаспаров, вот что требуется от современного комментатора 1.
По мнению доктора исторических наук М. А. Варга, чтобы правильно судить об исторических событиях, каждому исследователю истории должно быть присуще специфическое историческое сознание, суть которого заключается в способности к рефлексии, то есть в способности «посмотреть на себя со стороны», подвергнуть внутренней критике сам процесс получения знания. «В самом деле, пишет?. ?. Варг,- ни в один из периодов своей долгой истории муза Клио не была и -- вопреки видимости при первом к ней приближении не могла быть но самой своей сути бездумной накопителъницей «фактов». Уже со времени «отцов истории» Геродота и Фукидида и независимо от меры осознания этого et1 служителями элементы рефлексии являлись инструментом, посредством которого историк про из во/и? л отбор См.: «Иностранная литература», 1983, № 3, с. 190.
18
с историческим сознанием нельзя объяснить, почему видение истории столь различно. Для Тита Ливия история - эпос римских доблестей. Для Тацита - она драма ужасов, для Оттона Фрейзингенского - преддверие конца мира» 1.
Короче говоря, постановка вопроса об «историческом понимании», «диалоге» с «текстом» и т.п. вполне право-Mi рна. Здесь встает другой вопрос, а именно: в какой же? renoFin «историческое понимание», «предпонимание» одного человека, базирующееся, по мысли Гадамера, отнюдь,и· на научном познании объективных общественных зако-чимерностей, а, в сущности, на философской интуиции, противостоящей науке, может быть подлинно истинным? (. марксистской точки зрения в любом случае позиция, и, обоснованно принижающая роль сознательной рацио-га.? ыю обоснованной деятельности человека, преувеличи-н"ишцая значение подсознательных, иррациональных моментов в мотивации его деятельности, не может быть 1!гтинной. Это в конечном счете субъективистская позиция. 4 ?. Киссель в этой связи совершенно справедливо от-?????: «Современный уровень научного знания и знания.· науке... дает возможность рассеять тот особый гносео-f «? пческий ореол, которым было окружено в истории фмософии понятие интеллектуальной интуиции. Ника-! t,го особого статуса самодостоверности мы этой познава-». пной операции не имеем права приписывать по той!·,>·»(·гой причине, что благодаря исследованиям в области?,? .ч"матики... критерий интуитивной очевидности потерял г»" кий кредит. Интуитивная очевидность предстала в « ^"(м подлинном обличье как результат многократного?«··??,рения опыта, исторически сформировавшейся интел-.1· гуальной привычки, но не прорыва к первозданному н подлинному. Напротив, «первозданное»-это то, что н и ывается за пределами непосредственной очевидности, » > ц"твом интуитивирования мы не можем прорваться
Варг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987,
2-I3.
19
«к самим вещам»... выйти в поле подлинной объективности, полной «открытости» для мыслящего разума» 1.
Несомненно, что в конкретном движении мысли каждого индивида интуиция «часто является первой формой того, что затем делает ясным рефлексия,- пишет видный французский философ Л. Сэв.- Но научная теория познания убедительно доказала, как и история собственных наук и психология ребенка, что эта первичность интуиции носит относительный и эмпирический характер. С психологической точки зрения богатство мысли является не даром, а завоеванием; с логической точки зрения ее точность - это не посылка, а результат. Другими словами, если говорить о неосуществимых для философской интуиции задачах, то в первую очередь следует назвать задачу обоснования, ибо интуиция сама нуждается в обосновании» 2.
Приверженцы же герменевтики, в сущности, уклоняются от необходимости и обязанности показать истинные источники и границы философской интуиции, изображая непосредственные данные сознания, факты внутреннего переживания и т. п. (правда, представляемые порой в качестве неких априорных начал общечеловеческой коммуникации) как непреложные отправные пункты исследования истории. Результат, вытекающий из такой субъективистской позиции, очень хорошо показал английский философ Олдос Хаксли, утверждающий, что ни один психологический опыт не является, насколько это касается нас, «более истинным», чем какой-нибудь другой. Наука нисколько не «истиннее», чем здравый смысл, а безумие нисколько не «истиннее» по сравнению с искусством или религией. Каждый человек имеет полное право на свое собственное отдельное мировоззрение, как и на свой собственный особый характер, ибо существует весьма близкая связь между видением человека и его философией. Философия в таком случае, считает Хаксли, не есть отчет о вселенной, она - симптом, указывающий на то или иное состояние ума.
В свое время уже Гегель убедительно показал в «Феноменологии духа» всю несостоятельность субъективистского, интуитивистского постижения истины. Он писал, что «поборники этого знания воображают, будто, обволакивая туманом самосознание и отрекаясь от рассудка, они суть те
1 Кисее ль М. А. Феноменологическая концепция познания.-
3: Критика современных буржуазных теорий познания. Л., 1981, с. 151.
Сэв Л. Современная французская философия. М., 1968, с. 94, 95.
20
посвященные, коим бог ниспосылает мудрость во сне; то, что они таким образом на деле получают и порождают во сне, есть поэтому также сновидения» 1.
Гадамер и прочие приверженцы герменевтики в данном случае делают шаг назад также в сравнении с другим основоположником классической буржуазной философии И. Кантом. В самом деле, Кант, как известно, писал в «Пролегоменах»: «Дело чувств - созерцать, дело рассудка - мыслить. Мыслить же - значит соединять представления в сознании... Соединение представлений в сознании есть суждение. Следовательно, мыслить есть то же, что и составлять суждения или относить представления к суждениям вообще». Особенность нашего рассудка, подчеркивает Кант, состоит в том, что «он мыс-,??? все дискурсивно, то есть посредством понятий» 2.
Современные герменевтики, как видно, следуют старой пррационалистической тенденции, идущей от Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора и даже еще раньше - от Шеллинга. Они не понимают, не желают понять, что подлинное познание окружающего нас мира природы и истории достигается прежде всего в результате сложного и длительного развития разума, мышления в понятиях, в конкретных рациональных формах. При этом, подчеркиваем еще раз, марксисты ничуть не отрицают и интеллектуальную интуицию, как особую ступень познания, на которой знание выступает как результат непосредственного обобщения исходных опытных данных. Однако в любом случае она базируется на всем накопленном прежде опыте. Интуиция не противостоит рациональному овладению миром, все дело в том, что интуитивное познание осуществляется как бы по «сокращенной», синтезированной программе, без детального выявления и осознания всех логических форм и механизмов процесса возникновения нового знания.
В конечном счете, и искусство, к истинам которого так часто апеллирует Гадамер, отнюдь не плод мистического озарения. Подлинное художественное творчество всегда выступало и выступает как отражение и выражение самой сущности реальной действительности. Именно поэтому К. Маркс в своих «Экономическо-философских рукописях 1844 года», анализируя капиталистические общественно-экономические отношения, не раз ссылался, например, на
1 Г е гель Г. В. Ф. Соч., т. IV. М., 1959, с. 5.
Кант И. Соч. в шести томах, т. 4, ч. 1. М., 1965, с. 123, 155. 3 См.: Бунге М. Интуиция и наука. М., 1967.
21
«Фауста» Гёте и «Тимона Афинского» Шекспира, находя в них гораздо больше понимания сути вещей, чем в трудах по буржуазной политической экономии. Такие крупные художники современности, руководствовавшиеся в своем творчестве принципами социалистического реализма, как Луи Арагон и Бертольт Брехт, а также Томас Манн и Генрих Манн, специфическими путями искусства тоже пришли к глубокому пониманию и верному изображению сущности капиталистического мира. Все это подтверждает несостоятельность, необоснованность той роли, которую Гадамер и другие сторонники герменевтики приписывают искусству, отказывая в ней науке, а именно: быть нормой философской истины. Их апелляция к искусству оборачивается открытым воспеванием иррационализма и антиинтеллектуализма.
И дело не просто и не только в том, что Гадамер, герменевтики воспевают иррационализм. Они ведут открытую и скрытую борьбу против материализма и диалектики, против марксизма, который якобы посредством некоего «исторического разума» навязывает живой истории «законы исторического прогресса» и т. п. Они выступают сегодня с претензией на единственно верное объяснение мира, всей жизни человека и человечества в целом. Они обещают извлечь уроки из прошлого, всеобъемлюще понять настоящее и будущее, дать обществоведению «единый универсальный принцип», который обеспечит преодоление царящих в буржуазном обществе «культа непосредственного», дефляции высоких норм, духовного анархизма, торжества мелочно-конкретного, релятивизма в научной теории и т. п. Они обещают найти «последнюю почву», на которой можно строить, обосновывать и оправдывать абсолютную истину, подлинный смысл человеческого бытия и т. д.
Разумеется, философская герменевтика, несмотря на свои претензии, не может дать адекватно целостную картину мира и превзойти марксизм в качестве единственно верной методологии социального, исторического познания. Гадамер, приверженцы герменевтики бессильны здесь прежде всего потому, что, в сущности, не признают объективной реальности, ее первичности по отношению к мыслящему субъекту. В лучшем случае они исходят из тождества субъекта и объекта, в худшем - рассматривают объект в качестве порождения субъекта, поскольку отдают приоритет субъективистской интерпретации мира, рассматривают чувства, переживания субъекта в качестве основной реальности жизни.
22
Подобная тенденция со всей отчетливостью выступает и в данной книге Гадамера. Он отвергает всякую «охоту» ;ш фантомом исторического исследования и призывает видеть в объекте иное своего собственного и тем самым как одно, так и другое. Настоящий исторический предмет, пишет Гадамер,- это не предмет, а единство этого одного и другого, отношение, в котором заключается как действительность истории, так и действительность исторического понимания. Адекватная сути дела герменевтика должна в самом понимании показать действительность истории. «Речь идет о том, что я называю,историей воздействий"1. Понимание по существу своему является действенно-историческим свершением» (с. 355).
Бесспорно, марксистская материалистическая диалектика также берет «вещи и их умственные отражения в их ч.чаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении...» 1. Об этом не раз писал Ф. Энгельс. Вместе с тем он подчеркивал: «понятие о вещи и ее действительность движутся вместе, подобно двум асимптотам, постоянно приближаясь друг к другу, однако никогда не совпадая. Это различие между обоими именно и есть то различие, в силу которого понятие не есть прямо и непосредственно действительность, а действительность не есть непосредственно понятие этой самой действительности» 2.
К. Маркс также подчеркивал абсолютную нелогичность какого-либо сомнения в реальности, а тем более отрицания внешнего по отношению к субъекту мира: ведь стоящий на такой позиции тем не менее не ограничивает себя своим собственным существом, но вступает по поводу этой позиции в спор с другими. В «Экономическо-философских рукописях» Маркс саркастически замечает: «Я говорю тебе: откажись от своей абстракции, и ты откажешься от своего вопроса; если же ты хочешь придерживаться своей абстракции, то будь последовательным, и когда ты мыслишь человека и природу несуществующими, то мысли несуществующим и самого себя, так как ты тоже - и природа и человек. Не мысли, не спрашивай меня, ибо, как только ты начинаешь мыслить и спрашивать, твое абстрагирование от бытия природы и человека теряет всякий смысл. Или, быть может, ты такой эгоист, что полагаешь нее несуществующим, а сам хочешь существовать?» 3.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 22. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 354. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 126.
23
На такой, в сущности, «эгоистической» позиции и находятся Гадамер и все другие приверженцы герменевтики. В этой связи к ним в полной мере может быть отнесена ленинская критика махистского «тождества» бытия и сознания. «...Субъективистская линия в вопросе о причинности, выведение порядка и необходимости природы не из внешнего объективного мира, а из сознания, из разума, из логики и т. п. не только отрывает человеческий разум от природы, не только противопоставляет первый второй, но делают природу частью разума, вместо того, чтобы разум считать частичкой природы» !,- писал В. И. Ленин. Герменевтики не понимают, что человеку только кажется, «что его цели вне мира взяты, от мира независимы». На деле, как подчеркивал Ленин, «цели человека порождены объективным миром и предполагают его,- находят его как данное, наличное» 2.
Конечно, Гадамер отвергает любые упреки в субъективизме, и тем более в солипсизме. Герменевтика, доказывает он, отнюдь не отрицает субстанциальность мира. Но что, по его мнению, является основой герменевтической онтологии, основой бытия?
Ориентиром в решении этого вопроса Гадамер признает постановку проблемы бытия в античной философии. Прежде всего он одобряет Платона, который в противовес субъективизму не берет за исходную точку понятие для-себя-су-щего субъекта, превращающего в объект все остальное. Напротив, бытие «души» определяется у Платона тем, что" она причастна к истинному бытию, то есть относится к той же сущностной сфере, что и идея. Аристотель также считает, что душа есть некоторым образом все сущее. Следовательно, подчеркивает Гадамер, в таком мышлении нет и речи о свободном от мира и обладающем своей собственной достоверностью духе, который должен был бы искать путей к бытию, имеющему характер мира, но одно изначально связано с другим. Момент связи является здесь первичным.
В новейшей философии особенно большие заслуги в преодолении субъективизма, а также всей метафизики, завороженной бытием как наличным, Гадамер находит у Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. Важным достижением он признает вывод Гуссерля о том, что «жизнь... трансцендентально редуцированная субъективность... есть источник всех объективации» (с. 299). Еще более высоко он оце1 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 159.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 171.
L
кивает философские построения Хайдеггера, видя его заслугу прежде всего в том, что он поставил вопрос о бытии одновременно и как вопрос о ничто; метафизика так поставить проблему оказалась не в состоянии. Исходя из взаимосвязи «диалектики» бытия и ничто, Хайдег-гер интерпретировал бытие, истину и историю в категориях абсолютной временности; что такое бытие, понимание, истина, должно определяться в горизонте времени, подчеркивал он.
Вслед за Хайдеггером Гадамер утверждает, что всякий человеческий опыт есть опыт человеческой конечности. Опытен в собственном смысле слова тот, кто помнит об этой конечности, тот, кто знает, что время и будущее ему не подвластны.
Но что изначально направляет познание человека, что формирует его опыт? - Язык. В хайдеггеровском духе Гадамер заявляет: бытие есть язык. Только в языке открывается человеку истина бытия. При этом он постоянно подчеркивает, что языковой характер, присущий человеческому опыту мира, отнюдь не предполагает опредмечивание мира. Язык - это среда, где я и мир выражают-; и в и з н а ч а л ь н о и в з а и м о и p и н а д л е ж ноет и (с. 520).
В этих рассуждениях Гадамер весьма близок к традиции объективного идеализма. Во всяком случае, «вер-бальность» весьма напоминает гегелевское абсолютное знание, представленное теперь в виде «чистой формы мышления», в виде абсолютного условия всякого знания.
Гадамер и сам признает задачей философской герменевтики пройти «путь гегелевской феноменологии духа», правда, в обратном направлении, с тем чтобы обнаружить »о всякой субъективности субстанциальность, которая ее определяет. Именно язык конституирует мир, определяет способ человеческого в-мире-бытия, именно язык творит нам, чтобы мы на нем говорили.
Выразить, высказать себя - не значит обрести второе существование. Напротив, способ самоизъявления принадлежит самому бытию. Таким образом, в случае языка мы имеем дело со спекулятивным единством: с различением между бытием и самоизъявлениями, которое как раз не должно быть различием... То, о чем идет речь, есть почто иное, чем само сказанное слово. Но слово является словом лишь благодаря тому, что в нем высказывается. И наоборот, то, что высказывается, не является бессловно данным, а получает в слове свою собственную определенность, подчеркивает Гадамер.
Конечно, объективно-идеалистические построения Га25
дамера отличаются от гегелевских. Он критикует Гегеля за то, что последний рассматривает язык как форму реализации мышления, которое существует до и независимо от языка. По Гадамеру&heip;
Х. Г. ГАДАМЕР
ИСТИНА И МЕТОД:
ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Введение
Феномен понимания и правильного истолкования понятого является не только специальной методологической проблемой наук о духе. С давних пор существовала также и теологическая и юридическая герменевтика, которая не столько носила научно-теоретический характер, сколько соответствовала и способствовала практическим действиям научнообразованных судьи или священника. Таким образом, уже по самому своему историческому происхождению проблема герменевтики выходит за рамки, полагаемые понятием о методе, как оно сложилось в современной науке. Понимание и истолкование текстов является не только научной задачей, но очевидным образом относится ко всей совокупности человеческого опыта в целом. Изначально герменевтический феномен вообще не является проблемой метода. Речь здесь идет не о каком-то методе понимания, который сделал бы тексты предметом научного познания, наподобие всех прочих предметов опыта. Речь здесь вообще идет в первую очередь не о построении какой-либо системы прочно обоснованного познания, отвечающего методологическому идеалу науки, - и все-таки здесь тоже идет речь о познании и об истине. При понимании того, что передано нам исторической традицией, не просто понимаются те или иные тексты, но вырабатываются определенные представления и постигаются определенные истины. Что же это за познание и что это за истина?
Герменевтика не является некоей методологией наук о духе, но представляет собой попытку договориться, наконец, о том, чем же поистине предстают науки о духе, помимо своего методологического самосознания, а также о том, что связывает их с целостностью нашего опыта о мире. И если мы делаем понимание предметов наших размышлений, то целью, которую мы ставим себе, выступает вовсе не учение об искусстве понимания текстов, к чему стремилась традиционная филологическая и теологическая герменевтика. Подобное учение не отдавало бы себе отчета в том, что перед лицом истины, которая обращается к нам из глубины исторического предания, формально- искусное умение понимать и истолковывать означало бы совершенно неуместную претензию на превосходство. И если ниже будет показано, до какой степени всякое понимание является свершением и в сколь малой мере современное историческое сознание способно ослабить те традиции, в которых мы живем, то все это отнюдь не стремится дать наукам и самой жизненной практике какие-либо предписания все это пытается лишь исправить ложные представления о том, чем они являются на самом деле.
Философская герменевтика - философское движение нашего столети
Философская герменевтика включает философское движение нашего столетия, преодолевшее одностороннюю ориентировку на факт науки, которая была само собой разумеющейся как для неокантианства, так и для позитивизма того времени. Однако герменевтика занимает соответствующее ей место и в теории науки, если она открывает внутри науки с помощью герменевтической рефлексии - условия истины, которые не лежат в логике исследования, а предшествуют ей. В так называемых гуманитарных науках в некоторой степени обнаруживается - как это видно уже из самого их обозначения в английском языке ("моральные науки"),- что их предметом является нечто такое, к чему принадлежит с необходимостью и сам познающий.
Этот аспект можно даже отнести и к "правильным" наукам. Однако здесь необходимо различие. Если в современной микрофизике наблюдатель не элиминируется из результатов измерений, а существует в самих высказываниях о них, то это имеет точно определенный смысл, который может быть сформулирован в математических выражениях. Если в современных исследованиях отношений исследователь открывает структуры, которые также определяют и его собственное поведение историко-родовой наследственностью, то он, возможно, познает и о себе самом что-то, но именно потому, что он смотрит на себя другими глазами, чем с точки зрения своей "практики" и своего самосознания, если он при этом не подчиняется ни пафосу прославления, ни пафосу унижения человека. Наоборот, если всегда видна собственная точка зрения каждого историка на его знания и ценности, то констатация этого не является упреком против его научности. Еще неизвестно, заблуждается ли историк из-за ограниченности своей точки зрения, неправильно понимая и оценивая предание, или ему удалось правильно осветить не наблюдавшееся до сих пор благодаря преимуществу его точки зрения, которая позволила ему открыть нечто аналогичное непосредственному современному опыту. Здесь мы находимся в гуще герменевтической проблематики, однако это отнюдь не означает, что не существовало опять-таки таких методических средств науки, с помощью которых пытались решать вопрос об истинном и неистинном, исключать заблуждения и достигать познания. В "моральных" науках не обнаруживается никакого следа чего-нибудь другого, чего нет в "правильных" науках.
Подобное играет роль в эмпирических социальных науках. Вполне очевидно, что постановку вопроса здесь направляет "предпонимание". Речь идет о сложившейся общественной системе, которая имеет значение исторически ставшей, научно недоказуемой нормы. Она представляет не только предмет опытно-научного рационализирования, но и его рамки, в которые "вставляется" методическая работа. Исследование разрешает в данном случае проблему, большей частью учитывая помехи в существующих общественных функциональных взаимосвязях или также путем объяснения критикой идеологии, которая оспаривает существующие господствующие отношения. Бесспорно, что и здесь научное исследование ведет к соответствующему научному господству тематизированной частичной взаимосвязи общественной жизни; однако точно так же, конечно, неоспоримо, что это исследование побуждает к экстраполяции его данных на комплексную взаимосвязь. Такой соблазн слишком велик. И как бы ни были неопределены фактические основы, исходя из которых становится возможным рациональное овладение общественной жизнью, навстречу социальным наукам идет потребность веры, которая их буквально увлекает и выводит за их границы.
Мы можем это пояснить некоторым классическим примером, который Дж.С.Милль приводит как применение индуктивной логики к социальной науке, а именно к метеорологии. Верно не только, то что до сих пор мы не добились хотя бы большой уверенности в долгосрочных и обширных по охвату пространства прогнозах погоды с помощью современных данных и их переработки; но даже если бы мы в совершенстве овладели атмосферными явлениями или, лучше, - так как, в сущности, дело за этим не стоит - если бы в нашем распоряжении имелись в огромной степени возрастающие данные и их обработка, и тем самым стало бы возможно более точное предсказание, - тотчас бы возникли новые сложности. Сущность научного овладения ходом событий такова, что оно может служить любым целям. Это значит, что если бы возникла проблема создания погоды, влияния на погоду, то тем самым встала бы проблема борьбы общественно-хозяйственных интересов, о которых мы при современном состоянии прогностики имеем лишь ничтожное представление, например, при случайной попытке заинтересованных лиц повлиять на недельные прогнозы. В перенесении на социальные науки "овладение" общественным ходом событий с необходимостью ведет к "сознанию" социал-инженеров, которое желает быть "научным", и его социальное партнерство никогда не может быть совершенно отвергнуто. Здесь существует особая сложность, которая вытекает из социальных функций эмпирических социальных наук: с одной стороны имеет место тяга к опрометчивому экстраполированию эмпирически-рациональных данных исследований на комплексную ситуацию - только бы достичь вообще научных планомерных действий; с другой стороны, давление интересов сбивает с толку в вопросе о том, кого использовать социальным партнером в науке, чтобы повлиять на общественный процесс в их духе.
Фактически абсолютизирование идеала "науки" - это большое ослепление, которое каждый раз снова ведет к тому, чтобы герменевтическую рефлексию вообще считать беспредметной. Сужение перспективы, которое следует за мыслью о методе, кажется исследователю трудно понимаемым. Он всегда уже ориентирован на оправдание метода своего опыта, то есть отворачивается от противоположного направления рефлексии. Даже если он, защищая свое сознание метода, в действительности рефлектирует, он и тогда опять не позволяет своей рефлексии становиться темой сознания. Философия науки, рассматривающая научную методику как теорию и не принимающая участия ни в какой постановке вопроса, которая не может быть охарактеризована как осмысленная методом trial and error (проб и ошибок), не осознает, что этой характеристикой она сама себя ставит вне ее.
Природа вещей такова, что философский разговор с философией науки никогда не удается. Дебаты Адорно с Поппером, как и Хабермаса с Альбертом, показывают это очень ясно. Герменевтическая рефлексия рассматривается самым последовательным образом как теологический обскурантизм в научном эмпиризме, когда он поднимает "критический рационализм" до абсолютного масштаба истины.
К счастью, соответствие в вещах может состоять в том, что имеется только единственная "логика исследования", но и это еще не все, так как избирательная точка зрения, которая в согласии с обстоятельствами, выделяет определенную постановку вопроса и поднимает его до темы исследования сама не может быть получена из логики исследования. Примечательно здесь то, что теорию науки хотят, ради рационализма, отдать полному иррационализму, а тематизирование такой познавательно-практической точки зрения путем философской рефлексии считают незаконным; ведь философию, которая так поступает, упрекают как раз в том, что она защищена в своих утверждениях от опыта. Сторонники такого подхода не понимают, что сами более зависимым образом содействуют оторванности от опыта, например от здравого человеческого смысла и жизненного опыта. Это всегда происходит в том случае, когда научное понимание частичных связей подкрепляют некритическим применением, например, когда ответственность за политические решения возлагают на экспертов. Спор между Поппером и Адорно сохраняет нечто неудовлетворительное и при анализе того же самого у Хабермаса. Можно согласиться с Хабермасом, что герменевтическое предпонимание всегда находится в игре и, следовательно, требует рефлексивного объяснения. Но в этом пункте мы стоим по другую сторону от "критического рационализма" и поэтому не можем считать иллюзорным полное объяснение.
Герменевтическая рефлексия для методики познани
Ввиду такого положения вещей снова требуют разъяснения два пункта: что означает герменевтическая рефлексия для методики познания и как обстоит дело с задачей критического мышления по отношению к традиционности понимания?
Заострение напряженного внимания к истине и методу имеет политический смысл. В конце концов, как признал сам Декарт, именно к особой структуре выпрямления согнутой вещи относится тот факт, что ее следует сгибать в противоположном направлении. Но согнута в данном случае была не столько методика науки, сколько рефлексивное самосознание. Такой вывод, кажется, достаточно ясно вытекает из анализа послегегелевских историков и из самой герменевтики. Налицо наивное понимание, когда боятся, - все дальше следуя за Э.Бегги, что из-за герменевтической рефлексии размоется научная объективность. В этом и Аппель, и Хабермас, представители, например, "критического рационализма" одинаково слепы. Они отказывают всем притязаниям нашего анализа на рефлексию, а значит - также и в смысле применения, которое мы пытаемся показать как структурный момент всего понимания. Они так захвачены методологизмом теории науки, что постоянно имеют в виду правила и их применение. Они не признают, что рефлексия по поводу практики не есть техника.
То, о чем мы рефлектируем, является опытом самих наук и ограничением объективности, которое должно рассматриваться в них самих (а не как-то рекомендоваться). Признать продуктивный смысл таких ограничений, например, в форме продуктивного предрассудка, - кажется не чем-то иным, как заповедью научной добросовестности, за которую ручается философ. Как можно говорить подобное философии, которая это осознает, поощряя ее действовать в науке некритически и субъективно! Это кажется таким же бессмысленным, как если бы, наоборот, стали, например, ожидать требования логического мышления от математической логики или ждать требования научного исследования от теории познания критического рационализма, которая называет себя "логикой исследований". Теоретическая логика, как и философия науки, удовлетворяет скорее философскому требованию в оправдании и является вторичным по отношению к научной практике. При всем различии, которое существует между естествознанием и гуманитарными науками, общее имманентное значение критической методики, по сути дела, неоспоримо. Даже крайне критический рационалист не станет отрицать, что применению научной методики предшествуют определяющие факторы, которые касаются уместности выбора и постановки в нем вопросов.
Последней причиной той путаницы, которая господствует в данном случае в методологическом аспекте науки, нам кажется разрушение понятия практики. В эпоху науки с ее идеалом надежности указанное понятие стало узаконенным. Так как теперь наука видит свою цель в изолированном анализе причинных факторов явлений - в природе и в обществе, с практикой она имеет дело только как с применением науки. Но оно является такой "практикой", которая не требует никаких отчетных данных. Таким образом, понятие техники включает понятие практики, иначе говоря: компетенция эксперта оттеснила политический разум.
Как видим, герменевтика играет не только ту роль в науке, которая обсуждается, но выступает и как самосознание человека в современную эпоху науки. Один из важнейших уроков, которые дает история философии для этой актуальной проблемы, состоит в той роли, которую играет в аристотелевской этике и политике практика и знание, освещающее и ведущее ее, практический ум или мудрость, которую Аристотель называет фронесисом. Шестая книга "Никомаховой этики" оставила нам лучшее введение в эту забытую проблематику. По этому поводу отсылаем к работе - докладу "Герменевтика как практическая философия", который включен в сборник "К реабилитации практической философии", организованный М.Риделем. Великая подоплека традиции практической (и политической) философии, господствующей от Аристотеля до начала ХIХ столетия, - если рассмотреть ее философски состоит в зависимости того познавательного вклада, который относится к практике.
Конкретное особенное оказывается здесь не только исходным пунктом, но и моментом, всегда определяющим содержание всеобщего.
Эту проблему мы знаем в той форме, которую придал ей Кант в "Критике способности суждения". Кант различает определяющую способность суждения, которая подводит особенное под данное всеобщее от рефлектирующей способности суждения, которая за данным особенно ищет всеобщее понятие. Гегель, как мне кажется, правильно показал, что отделение этих двух функций способности суждения есть чистая абстракция и что способность суждения в действительности всегда заключается как в том так и в другом. Всеобщее, под которое подводят особенное, тем самым продолжает существовать само по себе. Ведь таким образом правовой смысл законов определяется судебной практикой, а принципиально всеобщность нормы - через конкретность отдельного случая. Как известно, Аристотель зашел так далеко, что на этой основе объявил даже платоновскую идею блага пустой, и по сути дела, вполне справедливо, если последняя действительно должна была мыслиться как существующее в высшей степени всеобщности.
Если мы примкнем к традиции практической философии, то это поможет нам отгородиться от технического самосознания научных понятий Нового времени. Но данное условие не исчерпывает философской интенции нашей попытки. Мы вообще не замечаем, чтобы в герменевтическом разговоре, который мы ведем, следовали этой философской интенции. Понятие игры, изъяв которое несколько десятков лет назад из субъективной сферы "тяги к игре" (Шиллер), мы вынуждены были обратиться к критике "эстетического отличия", включает в себя онтологическую проблему. Ведь в этом понятии объединяются игровое переплетение явления и понимания, даже языковая игра нашего жизненного опыта, как они были представлены Витгенштейном в его метафизически-критическом анализе. Как "онтологизирование" язык может появляться при нашей постановке вопроса, однако, лишь тогда, когда вопрос о предпосылках инструментализации языка вообще остается без внимания. Это действительно проблема философии, которую выдвигает герменевтическая практика вскрыть те онтологические импликации, которые лежат в "техническом" понятии науки, и достигнуть теоретического признания герменевтического опыта. И здесь на передний план должна быть выдвинута философская беседа, ее возрождение, необходимое не для того, чтобы обновить платонизм, а скорее для того, чтобы, возобновив разговор с Платоном, вернуться к тому, что стоит за признанными понятиями метафизики и не признанными ею дальнейшими следствиями. "Подстрочные замечания к Платону" Уайтхеда могут сыграть важную роль в решении данной задачи, как правильно отметил Виль (см. его введение к немецкому изданию "Приключении идей" Уайтхеда). Во всяком случае нашим намерением было объединить масштабы философской герменевтики с платоновской диалектикой, а не с гегелевской. Третий том "Маленьких сочинений" уже своим титульным листом показывает, почему он назван "Идея и язык". При всем уважении к современному исследованию языка нужно сказать, что техническое самопознание науки Нового времени закрывает ему герменевтические масштабы и те философские задачи, которые в ней заложены.
Философские вопросы, окружающие герменевтическую проблематику
О масштабности философских вопросов, которые окружают герменевтическую проблематику, хорошее представление дает сборник "Герменевтика и диалектика" (1970), а именно широким спектром помещенных в ней статей. Постепенно философская герменевтика стала неизменным партнером в разговоре, даже и своими специальными областями герменевтической методологии.
Разговор о герменевтики распространяется здесь прежде всего на четыре научные области: на юридическую герменевтику, теологическую герменевтику, теорию литературы, а также на логику социальных наук.
Значение герменевтики в общественных науках было критически оценено прежде всего Ю.Хабермасом.
Важен с этой точки зрения также то номер "Континуума", в котором франкфуртская критическая теория конфронтирует с герменевтикой. Хороший обзор общего положения с данной проблематикой в исторических науках дает доклад, который сделал Карл-Фридрих Грюндер на конгрессе историков в 1970 г.
Однако вернемся к теории науки. Проблема релевантности не ограничивается только лишь гуманитарными науками. То, что является в естествознании фактами, подразумевает не все любые точные величины, а те данные измерения, которые дают ответ на вопрос, представляют собой подтверждение или отрицание гипотезы. Точно так же установленные экспериментальные данные об измерении каких-нибудь величин подтверждаются не в результате того, что эти измерения выполняются точнейшим образом по всем правилам искусства. Они получают свое подтверждение только в контексте исследования. Таким образом, вся наука включает в себя герменевтический компонент. Положение, согласно которому абстрактно изолированный исторический вопрос или факт мало что может дать, аналогично, очевидно, и для области естествознания. Но это никоим образом не означает, что тем самым ограничивается рациональность самого метода, насколько такое возможно. Схема "построения гипотез и их проверки" сохраняется в любом исследовании, и в исторических науках даже внутри философии, - и, конечно, всегда есть опасность, что рациональность метода будет принята за достаточное подтверждение значения "познанного" с его помощью.
Но если признают проблему релевантности, то едва ли можно останавливаться на лозунге Макса Вебера о свободе ценностей. Слепой децизионизм относительно последней цели, в защиту которого Макс Вебер открыто высказывался, не может удовлетворить. Здесь методический рационализм кончается грубым иррационализмом. К нему присоединяют так называемую экзистенциальную философию, которая в корне не признает вещей. Противоположность - истинна. То, что подразумевал Ясперс под понятием высветления экзистенции, было, скорее всего, последним решением подвести фундамент под рациональное высветление (недаром это считалось неотделимым от "разума и экзистенции") - и Хайдеггер делает окончательный, еще более радикальный вывод: объяснить сомнительность различия ценности и факта и распутать догматическое понятие "факт". А между тем, в естествознании вопрос о ценности не играет никакой роли. В связи с собственными работами исследователи, правда, подчиняются, как уже упоминалось, герменевтически объяснимым связям. Но они не перешагивают при этом за круг своей методической компетенции. Самое большее - в одном единственном пункте появляется аналогия: в вопросе, действительно ли они совсем независимы от языковой картины мира в своей научной проблематике, в которой исследователи живут как исследователи, - от языковой схемы мира своего родного языка. Но в одном смысле и здесь герменевтика всегда участвует в игре. Даже если будут отфильтрованы все второстепенные оттенки, специфичные для родного языка, неизменно остается еще проблема "перевода" научного знания на общезначимый язык, путем которого естествознание только и получает свою коммуникативную универсальность, а тем самым - и свою социальную релевантность. Но тогда это не касается исследования как такового, и только указывает на то, что оно не "автономно", а находится в общественном контексте. Данное обстоятельство имеет значение для всей науки. Между тем совершенно ни к чему иметь желание резервировать за "понимающими" науками и особую автономию, и нельзя не заметить, что в них донаучное знание играет гораздо большую роль. Конечно, можно доставить себе удовольствие, и все то, что является таковым, назвать "ненаучным и рационально непроверяемым" и т.д. Но именно тем самым и будет признано, что это состояние таких наук. Тогда необходимо высказать следующее возражение: донаучное знание, которое обнаруживают как печальный остаток ненаучности в подобных науках, как раз и составляет своеобразие, и оно, несомненно, гораздо в большей степени определяет практическую и общественную жизнь человека, включая условия для занятий наукой вообще, чем то, чего можно было бы достигнуть путем рационализации человеческих связей. Разве можно действительно хотеть, чтобы каждый доверялся специалисту в решающих вопросах как общественной и политической, так и частной и личной жизни? Ведь при конкретном применении своей науки специалист будет использовать не свою науку, а свой практический разум. И почему разум у специалиста - будь он даже идеальным социальным инженером - должен быть больше, чем у других людей?
По этой причине нам кажется прямо-таки предательством, когда с высокомерной насмешкой осуждают герменевтические науки, утверждая, будто они подреставрировали аристотелевскую качественную картину мира. Мы не говорим о том, что и совершенная наука не везде применяет количественные методы - например, в морфологических дисциплинах. Но позволим себе сослаться на то, что предзнание, которое мы получаем из нашей языковой ориентировки в мире (и это действительно лежит в основе так называемой "науки" Аристотеля), играет определенную роль повсюду, где перерабатывается жизненный опыт, где поняты языковые традиции и где функционирует общественная жизнь. Такое предзнание не является, конечно, никакой критической инстанцией по отношению к науке, а само подвергается критическим замечаниям со стороны науки, но оно есть и остается ведущим медиумом всего понимания. Отсюда создается особый методический вид понимающих наук. Они открыто ставят задачу установить границу образованию профессиональной терминологии и вместо построения специального языка заниматься "общеязыковыми" средствами. Можно, вероятно, здесь добавить, что и представленная Камла и Лоренценом "Логическая пропедевтика", которая требует от философов методического "введения" всех узаконенных понятий для научно подтвержденных высказываний - сама идет от герменевтической области предпосылаемого языкового предзнания к критически очищающему словоупотреблению. Идеалу такого построения научного языка, который, без сомнения, во всех областях, особенно в логике и теории познания, дает важные пояснения и в области философии является воспитанием ответственности за язык, не следует ставить никаких границ. То, что в гегелевской логике было предпринято под воздействием главной мысли о философии, охватывающей всю науку, Лоренцен снова пытается сделать в рефлексии об "исследовании" для его логического оправдания. Закономерная, конечно, задача, но хочется возразить, что источник знания и предзнания, который берет свое начало в осевших в речи толкованиях мира, сохраняет свою закономерность и тогда, когда хотят усовершенствовать идеальный научный язык, - и это имеет значение как раз и для "философии". Историко-понятийному объяснению, которому уделяется место в книге и которое использовано, насколько можно, был положен конец тем упреком Камла и Лоренцена, что традиция как таковая не может высказать никакого определенного и однозначного суждения. И действительно, никакого. Но самому нести ответственность перед этой традицией можно, что означает: не изобретать язык, соответствующий новому пониманию, а использовать существующий язык, - это кажется нам закономерным требованием. Для языка философии оно лишь тогда выполнимо, когда ей удается оставить открытым путь от слова к понятию и от понятия к слову с обеих сторон. Кажется, что у Камла и Лоренцена словоупотребление является инстанцией их собственного образа действий, которую они часто принимают во внимание. Они, конечно, не дают никакого методического построения языка путем постепенного введения понятий. Но и это есть "метод", который дает возможность осознать импликацию, лежащую в терминах понятий, и, как мы думаем, соответствует предмету философии. Ведь предмет философии не ограничен рефлексивным высветлением метода наук. И не в образовании "суммы" из многообразия наших знаний и тем самым в закруглении "мировоззрения" в целом он состоит. Конечно, философия - как никакая другая наука - должна иметь дело с нашим мировым и жизненным опытом в целом, но только так, как это делает сам жизненный и мировой опыт, выражаемый в языке.
Мы далеки от того, чтобы утверждать, что знание об этой тотальности представляет собой действительно твердое знание, и более того - оно должно подвергаться все новой глубокой критике. Однако нельзя игнорировать такое "знание", в котором форма всегда имеет выражение в религиозной или народной мудрости, в произведениях искусства или в философских мыслях. Даже диалектика Гегеля - имеется в виду не схематизирование метода философского доказательства, а лежащий в его основе опыт "обыгрывания понятий, которые претендуют на охват целого" в противоположность ей", - эта диалектика принадлежит к формам самоуяснения и интерсубъективного изображения нашего человеческого опыта.
Мы не рассматриваем данный упрек лишь как обнаружение недостатка, который довольно часто может иметь место. Это, как нам кажется, скорее соответствует задаче философского языка понятий - давать понять цену точного отграничения понятий от путаницы во всемирном языковом знаний и тем самым сделать живым отношение к целому. Это позитивная импликация "языковой нужды", которая с самого начала была присуща философии. При уравновешенной понятийной системе в весьма особые мгновения и при весьма особых обстоятельствах, которых мы не найдем ни у Платона или Аристотеля, ни у Майстера Экхарта или Николая Кузанского, ни у Фихте и Гегеля, но, возможно, найдем у Фомы Аквинского, у Юма и Канта, эта бедность языка остается скрытой, но и там она с необходимостью вскрывается опять-таки только при следовании за движением мысли. В Даксельдорском докладе "История понятий и язык философии". Слова, которые используются в философском языке и заостряются до понятийной точности, постоянно имплицируют момент "объектно-речевого" значения и сохраняют поэтому нечто соответствующее.
Но взаимосвязь значения, которая звучит в каждом слове живого языка, входит одновременно в потенциальное значение термина. Данную особенность нельзя исключать ни при каком применении общеязыковых выражений для понятий. Но в естественных науках это не требуется при образовании понятий, постольку в них всякое употребление понятий контролируется отношением к опыту, то есть обязывает к идеалу однозначности и подготавливает логическое содержание высказываний.
Другое дело - философия и вообще те области, где посылки донаучного языкового знания включаются в познание. Там язык, кроме обозначения данного по возможности однозначно, - имеет еще и другую функцию: он является "самоданным" и вносит эту самоданность в коммуникацию. В герменевтических науках с помощью языкового формулирования не просто указывают на содержание предмета, который можно познать иным путем после повторной проверки, а постоянно также выясняют, как сделать ясным его значение. Особое требование к языковому выражению и образованию понятий состоит в том, что здесь должна быть вместе с тем отмечена та взаимосвязь понимания, в которой содержание предмета что-то значит. Сопутствующее значение, которое имеет выражение, не затуманивает, таким образом, его ясность (поскольку оно неоднозначно обозначает общее), а повышает ее, поскольку подразумеваемая связь достигается в ясности как целое. Это то целое, которое построено с помощью слов и только в словах становится данностью.
На этот феномен смотрят традиционно как на чисто стилевой вопрос и относят его к области риторики, где убеждение достигается с помощью возбуждения аффектов, или измышляют современные эстетические понятия. Тогда появляется "самоданность" как эстетическое качество, которое берет свое начало в метафорическом характере языка. Можно не добавлять, что здесь лежит момент познания. Но нам кажется сомнительной противоположность логического" и "эстетического" там, где речь о действительном языке, а не о логическом искусственном построении орфографии, как она представляется Лоренцену. Нам кажется не менее логической задачей допустить возможность интерференции между всеми собственно языковыми элементами, искусственными выражениями и т.д. и обычным языком. Это герменевтическая задача; иными словами - другой полюс определения соответствия слов.
Данные рассуждения приводят нас к истории герменевтики. В попытке ее изложить задача, по существу, в подготовке к этому и образовании фона, вследствие чего наше изложение истории герменевтики обнаруживало известную односторонность.
Язык как горизонт герменевтической онтологии
Современная наука с ее методами математического измерения должна была, как показывает пример Бэкона, отвоевывать пространство для своих собственных конструктивных планов как раз у порождаемых языком предубеждений и наивной телеологии языка.
C другой стороны, позитивная существенная связь между фактичностью языка и способностью человека к науке. Это особенно ясно видно на примере античной науки, чье происхождение из языкового опыта мира составляет ее специфическое отличие и ее специфическую слабость. Чтобы преодолеть ее слабость, ее наивный антропоцентризм, cовременной науке пришлось пожертвовать и ее отличием, ее включенностью в естественное человеческое отношение к миру. Это может быть очень хорошо проиллюстрировано понятием теории. То, что в современной науке называется теорией, не имеет, как кажется уже почти ничего общего с той созерцательно-познавательной позицией, c которой греки воcпринимали мировой порядок. Cовременная теория есть конструктивное средство, позволяющее на обобщать опыт и создающее возможность овладения этим опытом.
Как говорит сам язык, мы строим теории. Этим уже подразумевается, что одна теория отменяет и что каждая изначала претендует лишь на относительную значимость именно до тех пор, пока не будет найдено ничего лучшее.
Античная «теорийа» не была в этом смысле средством; она сама была целью, высшей степенью человеческого бытия. Тем не менее существует тесная взаимосвязь между античной и современной наукой. И там и здесь теоретическая установка означает преодоление практически-прагматическго интереса, рассматривающего все происходящее в совете собственных намерений и целей. Аристотель сообщает нам, что теоретическая жизненная позиция могла возникнут лишь там, где уже имелось все необходимое для удовлетворения простых жизненных потребностей. Также и современная теоретическая наука обращается со своими вопросами к природе отнюдь не ради каких то определенных практических целей. Хотя и верно что уже способ постановки ее вопросов, ее исследований направлен на покорение сущего и постольку сам по себе должен быть назван практическим, - однако для сознания отдельного ученного практическое применение его познаний вторично в том смысле, что хотя оно и вытекает из этих познаний, однако лишь задним числом, как что тот кто познает что -либо, не обязан знать, к чему может быть применено познанное им.
Несмотря на это при всех соответствиях, различие сказывается уже в значении слов теория, теоретическое. В современном словоупотреблении теоретическое оказывается почти привативным понятием. Нечто является лишь теоретическим, если она не обладает обязательностью цели, определяющей наши действия. И наоборот, cами разрабатываемые здесь теории определяются конструктивной идеей, то есть само теоретическое познание рассматривается с точки зрения сознательного овладения сущим: не как цель, но как средство. Теория в античном смысле есть нечто совершенно иное. Здесь не просто созерцается существующий порядок как таковой, но теория означает, cверх того, участие созерцателя в самом целостном порядке бытия.
Подлинным основанием этого различия между греческой теорией и современной наукой является, на мой взгляд, различное отношение к языковому опыту мира. Греческое знание, как мы подчеркивали выше было до такой степени укоренено в этом опыте, до такой степени подвержено языковым соблазнам, что его борьба с властью слов так и не привела к созданию идеала чистого языка знаков, полностью преодолевающего власть слов, как это произошло в случае современной науки с ее направленностью на овладение сущим.
Как буквенная символика, используемая Аристотелем в логике, так пропорционально-относительный способ описания двигательных процессов, к которому он прибегает в физике, есть очевидным образом, нечто совсем иное, чем то применение которое получила математика в XVII столетии.
Обращаясь к истокам науки у греков, это ни в коем случае нельзя упускать из виду.
Прошли наконец те времена, когда можно было использовать современные научные методы как единый масштаб, позволяющий интерпретировать Платона с точки зрения Канта, идею с точки зрения закона природы (неокантианство) или рассматривать учение Демокрита как первую, хотя и неудавшуюся попытку истинного (механического) познания природы.
Уже принципиальное преодоление точки зрения рассудка у Гегеля с помощью идеи жизни показывает границы такого подхода. Хайдеггер же, как мне кажется нашел в бытии и времени такую точку зрения, которая позволяет мыслить как различие между греческой и современной наукой, как и то что их связывает. Выдвинув понятие наличности (vorhandenheit) как некоего недостаточного модуса бытия, познав неистинную подоплеку классической метафизики и ее завершения в идее субъективности нового времени, он открыл действительную онтологическую связь между греческой (теорией) и современной наукой. В перспективе его временной интерпретации бытия классическая метафизика в целом оказывается онтологией наличного, а современная наука, cама о том не подозревая - ее наследницей.
Разумеется в самой греческой теории присутствовали еще и другие моменты. Теория постигает не столько наличное, cколько само дело, еще обладавшее достоинством вещи.
Что опыт вещи имеет так же мало общего с простым установлением чистого наличествования, как и с опытом как называемых эмпирических наук, подчеркивал позднее и сам Хайдеггер.
Достоинство вещи, как и фактичность языка должно быть таким образом, освобождено от предубеждения против онтологии наличного, а следовательно, и от понятия объективности.
Мы исходим из того, что в языковом оформлении человеческого опыта мира происходит не измерение или учет наличествующего, но обретает голос само сущее в том виде, в каком оно в качестве сущего и значимого являет себя человеку. Именно в этом - а не в методологическом идеале рациональной конструкции, господствующем в современной математической науке, - узнает себя осуществляемое в науках о духе понимание.
Если выше мы использовали для характеристики способа осуществления действенно - исторического сознания понятия его языковой природы, то причина этого в том, что языковой характер имеет человеческий опыт мира вообще. Cколь мало (мир) опредмечивается в этом опыте, cтоль же мало история воздействий является предметом герменевтического сознания.
«ИСТИНА И МЕТОД: основные черты философской герменевтики» («Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik», Tüb., 1960, рус. пер. 1988) – главное сочинение Х.-Г.Гадамера. Книга является итогом почти сорокалетней работы Гадамера как практикующего «герменевта» – интерпретатора различных текстов философской и литературной традиции. Заголовок носит провокативный характер: союз «и» не столько связывает «истину» с «методом», сколько противопоставляет их друг другу. По убеждению Гадамера, тот способ познания, что утвердился вместе с утверждением новоевропейской науки, не является ни единственным, ни универсальным. Человеческое познание по сути «неметодично», оно лишь в немногих случаях может быть подчинено некоему методу. К тому же наука и научно-теоретическое освоение реальности – лишь одно из отношений человека к миру. Парадигматическое значение в этой связи имеет искусство. Опыт, проделываемый в искусстве и посредством искусства, обладает не меньшим познавательным потенциалом, чем опыт, поставляемый естествознанием и «точными науками». Раскрытию недооцененного потенциала этого опыта и посвящена книга Гадамера (задача книги по сути поставлена работой М.Хайдеггера «Исток художественного творения»).
Труд Гадамера в известном смысле продолжает «реабилитацию» гуманитарных наук (восходящих к немецкому романтизму «наук о духе»), начатую в кон. 19 в. В.Дильтеем . Однако дильтеевскую концепцию понимания (как и его герменевтику в целом) Гадамер находит недостаточной. Трактовка понимания, предложенная Дильтеем, кажется Гадамеру несвободной от психологизма. Стремясь подчеркнуть радикальность своего разрыва со школой Дильтея, Гадамер подчеркивает свою близость к Шлейермахеру (приоритет «грамматической» интерпретации перед «психологической») и к Гегелю (учение об «объективном духе»).
Книга состоит из трех разделов, которым соответствуют три измерения человеческого бытия: «эстетическое», «историческое» и «языковое». Цель каждого из разделов – показать недопустимость сужения «опыта истины», заключенного соответственно в искусстве, истории и языке. Применительно к искусствоведению (и к эстетической сфере вообще) можно утверждать, что такое сужение началось с Канта. Хотя в кантовской теории еще сохраняется примат «прекрасного в природе» над «прекрасным в искусстве», основу «прекрасного» Кант усматривает именно в априорной структуре субъективности. Это привело в дальнейшем к перевесу идеи «гения» над идеей «вкуса» и ко все большему отходу от онтологических параметров художественного произведения в сторону «творческой субъективности». Противовес субъективизации феномена искусства Гадамер находит в философии Гегеля. Идея «художника» у Гегеля заключается не в том, что сказал художник, а в том, что сказалось в нем. Смысл, таким образом, трансцендентен мыслящему субъекту. Понимая произведение искусства, мы имеем дело с реальностью, не умещающейся в субъективности его создателя. Применительно к исторической науке (2-й раздел книги) аналогичная редукция «опыта истины» происходит с появлением так называемого историзма . Последний изъял из исторической сферы «герменевтическое измерение»: историю стали изучать, вместо того чтобы ее понимать. К текстам прошлого стали подходить «лишь исторически», т.е. рассматривать их исключительно как продукт определенных социально-культурных обстоятельств, как если бы они были абсолютно безотносительны к тем, кто их познает. В стремлении преодолеть ограниченность позитивистски ориентированной исторической науки Дильтей предложил психологический подход к осмыслению феноменов прошлого: их нужно не просто объяснить, исходя из определенного представления о связи общего и частного, но и понять, воспроизведя в собственной субъективности уникальную субъективность другого. Однако герменевтическая проблема, т.е. проблема понимания, тем самым не раскрывается. Для понимания недостаточно перемещения интерпретатора в «горизонт» автора, необходимо «переплавление» их горизонтов. Последнее же может произойти только благодаря чему-то третьему – тому общему, в чем смогут примириться позиции обоих. Таким «третьим» выступает язык, рассматриваемый с точки зрения его бытийного статуса, т.е. как особая реальность, внутри которой человек себя застает и которая не может быть схвачена средствами социологического или психологического исследования.
Раскрытию онтологического измерения языкового опыта посвящен 3-й раздел книги. Здесь Гадамер также выступает как верный ученик Хайдеггера. В стихии языка осуществляется и понимание человеком мира, и его самопонимание, и понимание людьми друг друга. Язык есть основное условие возможности человеческого бытия; более того, язык вообще есть то «бытие, которое может быть понято». Будучи несущей основой передачи культурного опыта от поколения к поколению, язык обеспечивает возможность традиции, а диалог между различными культурами реализуется через поиск общего языка. Пафос книги – в демонстрации онтологической укорененности герменевтической проблематики. В последующих изданиях «Истины и метода» Гадамер, реагируя на критику (Э.Бетти, Ю.Хабермас, К.О.Апель, Е.Д.Хирш, Т.Зеебом и др.), уточнял ее отдельные тезисы, но не отказывался от ее основной мысли: герменевтика не есть вспомогательная дисциплина или методология (пусть даже и наделенная самыми широкими полномочиями), она имеет универсальный характер. «Истина и метод» стала программным сочинением герменевтики философской и одним из наиболее часто цитирумых источников экзистенциально-феноменологического направления современной западной философии.
Часть первая Изложение проблемы истины в применении к познанию искусства I. Расширение эстетического измерения в область трансцендентного 1. Значение гуманистической традиции для гуманитарных наук а) ПРОБЛЕМА МЕТОДА Логическое самоосознание гуманитарных наук, сопровождавшее в XIX веке их фактическое формирование, полностью находится во власти образца естественных наук. Это может показать уже само рассмотрение термина «гуманитарная наука» (Geisteswissenschaft, букв, «наука о духе»), хотя привычное нам значение он получает только во множественном числе. То, что гуманитарные науки понимаются по аналогии с естественными, настолько очевидно, что перед этим отступает призвук идеализма, заложенный в понятии духа и науки о духе. Термин «гуманитарные науки» получил распространение главным образом благодаря переводчику «Логики» Джона Стюарта Милля. В своем труде Милль последовательно пытается обрисовать возможности, которыми располагает приложение индуктивной логики к области гуманитарных наук («moral sciences», букв, «наук о морали»). Переводчик в этом месте ставит «Geisteswissenschaften» " . Уже из самого хода рассуждений Милля следует, что здесь речь идет вовсе не о признании некоей особой логики гуманитарных наук, а, напротив, автор стремится показать, что в основе всех познавательных наук лежит индуктивный метод, который предстает как единственно действенный и в этой области. Тем самым Милль остается в русле английской традиции, которая была наиболее выразительно сформулирована Юмом во введении к его «Трактату» 2 . В науках о морали тоже необходимо познавать сходства, регулярности, закономерности, делающие предсказуемыми отдельные явления и процессы. Однако и 44 в области естественных наук эта цель не Всегда равным образом достижима. Причина же коренится исключительно в том, что данные, на основании которых можно было бы познавать сходства, не всегда представлены в достаточном количестве. Так, метеорология работает столь же методично, что и физика, но ее исходные данные лакунар-ны, а потому и предсказания ее неточны. То же самое справедливо и в отношении нравственных и социальных явлений. Применение индуктивного метода в этих областях свободно от всех метафизических допущений и сохраняет полную независимость от того, каким именно мыслится становление наблюдаемого явления. Здесь не примысливают, например, причины определенных проявлений, но просто констатируют регулярность. Тем самым независимо от того, верят ли при этом, например, в свободу воли или нет, в области общественной жизни предсказание в любом случав оказывается возможным. Извлечь из наличия закономерностей выводы относительно явлений - никоим образом не означает признать что-то вроде наличия взаимосвязи, регулярность которой допускает возможность предсказания. Осуществление свободных решений - если таковые существуют- не прерывает закономерности процесса, U само по себе принадлежит к сфере обобщений и регулярностей, получаемых благодаря индукции. Таков идеал «естествознания "об обществе», который обретает здесь программный характер и которому мы обязаны исследовательскими успехами во многих областях; достаточно вспомнить о так называемой массовой психологии. Однако при этом выступает, собственно, та проблема, которую ставят перед мышлением гуманитарные науки: их суть не может быть верно понята, если измерять их по масштабу прогрессирующего познания закономерностей. Познание социально-исторического мира не может подняться до уровня науки путем применения индуктивных методов естественных наук. Что бы ни означало здесь слово «наука» и как бы ни было распространено в исторической науке в целом применение более общих методов к тому или иному предмету исследования, историческое познание тем не менее не имеет своей целью представить конкретное явление как случай, иллюстрирующий общее правило. Единичное не служит простым подтверждением закономерности, которая в практических обстоятельствах позволяет делать предсказания. Напротив, идеалом здесь должно быть понимание самого явления в его однократной и исторической конкретности. При 45 этом возможно воздействие сколь угодно большого объема общих знаний; цель же состоит не в их фиксации и расширении для более глубокого понимания общих законов развития людей, народов и государств, но, напротив, в понимании того, каковы этот человек, этот народ, это государство,каково было становление, другими словами - "как смогло получиться, что они стали такими. Что же это за познание, позволяющее понять нечто как таковое через понимание путей его становления? Что здесь называется наукой? И даже если признать, что идеал такого рода познания принципиально отличен по типу и установкам от принятого в естественных науках, все-таки остается соблазн обратиться в данном случае, по меньшей мере привативно, к такой характеристике, как «неточные науки». Даже попытка (столь же значимая, сколь и справедливая) уравнять в правах гуманитарные и естественные науки, предпринятая Германом Гельмгольцем в его знаменитой речи 1862 года, как бы ни подчеркивал он превосходство гуманитарных наук в их общечеловеческом значении, сохранила негативность их логической характеристики с точки зрения методического идеала естественных наук3. Гельмгольц различает два вида индукции: логическую и художественно-инстинктивную. Но это означает, что и тот и другой способ мышления он различает в их основе не логически, а психологически. Оба они пользуются индуктивными выводами, но процесс, предшествующий выводу в гуманитарных науках,- это неосознаваемое умозаключение. Тем самым практика гуманитарной индукции связана с особыми психологическими условиями. Она требует своего рода чувства такта, и для нее необходимы разнообразные духовные свойства, например богатая память и признание авторитетов, в то время как самоосознанные умозаключения ученых-естественников, напротив, основываются полностью на включении собственного сознания. Даже если признать, что великий естествоиспытатель устоял перед соблазном сделать из своего собственного способа работы общеобязательную норму, он тем не менее явно не располагает никакой другой логической возможностью охарактеризовать результаты гуманитарных наук, как только с помощью привычного ему благодаря «Логике» Милля понятия индукции. То, что фактическим образцом для наук XVIII века стала новая механика, достигшая триумфа в небесной механике Ньютона, было и для Гельмгольца все еще настолько само собой разумеющимся, что он даже не задался вопросом, например, 46 о том, какие философские предпосылки обеспечили становление этой новой для XVII века науки. Сегодня мы знаем, какое значение для этого имела парижская школа оккамистов4. Для Гельмгольца методический идеал естественных наук не нуждается ни в поисках исторического предшествования, ни в теоретико-познавательных ограничениях, а поэтому и работу ученых-гуманитариев он логически не в силах понять по-иному. Настоятельно требовала решения также насущная задача: поднять до логического самопознания такие достигшие полного расцвета исследования, как, к примеру, штудии «исторической школы». Уже в 1843 году И. Г. Дройзен, автор и первооткрыватель истории эллинизма, писал: «Наверное, нет ни одной области науки, которая столь удалена, теоретически оправдана, ограничена и расчленена, как история». Уже Дройзен нуждается в Канте, увидевшем в категорическом императиве истории «живой источник, ίίί>, которого струится историческая жизнь человечества». Он ожидает, «что глубже постигнутое понятие истории станет той точкой гравитации, где нынешние пустые колебания гуманитарных наук смогут обрести постоянство и возможности для дальнейшего прогресса» ° . Образец естественных наук, к которому здесь взывает Дройзен, понимается тем самым не содержательно, в смысле научно-теоретического уподобления, а, напротив, в том смысле, что гуманитарные науки должны найти обоснование в качестве столь же самостоятельной группы научных дисциплин. «История» Дройзена - это попытка решения данной проблемы. Дильтей, у которого значительно сильнее проявляется влияние естественнонаучного метода и эмпиризма мил-левской логики, тем не менее твердо придерживается романтико-идеалистических традиций в понимании гума-нитарности. Он также испытывает постоянное чувство превосходства по отношению к английской эмпирической школе, так как непосредственно наблюдает преимущества исторической школы сравнительно с любым естественнонаучным и естественноправовым мышлением. «Только из Германии может прийти действительно эмпирический метод, заступив на место предвзятого догматического эмпиризма. Милль догматичен по недостатку исторического образования»- такова заметка Дильтея на экземпляре «Логики» Милля 6. На деле вся напряженная, длившаяся десятилетиями работа, которую Дильтей затратил на то, чтобы обосновать гуманитарные науки, была " 47 постоянным столкновением с логическими требованиями, которые предъявляет к этим наукам знаменитая заключительная глава Милля. Тем не менее в глубине души Дильтей согласен с тем, что естественные науки - образец для гуманитарных, даже когда он пытается отстоять методическую самостоятельность последних. Это могут прояснить два свидетельства, которые одновременно указывают нам путь к дальнейшим наблюдениям. В некрологе, посвященном Вильгельму Шереру, Дильтей подчеркивает, что дух естественных наук сопровождал Шерера в его трудах, и делает попытку объяснить, почему именно Шерер находился под столь сильным влиянием английских эмпириков: «Он был современным человеком, и мир наших предков не был более родиной его духа и сердца; он был его историческим объектом» 7. Уже сам этот оборот показывает, что для Дильтея с научным познанием сопряжен разрыв жизненных связей, отход на определенную дистанцию от собственной истории, позволяющие превратить эти связи и эту историю в объекты. Можно сказать, что и Шерер и Дильтей применяют индуктивный! и сравнительный метод с подлинным индивидуальным (тактом и что такой такт возникает только на почве духов- ! ной культуры, сохраняющей живую связь с миром про- ; свещения и романтической веры в индивидуальность. Тем " не менее в своей научной концепции оба они руководствовались образцом естественных наук. Особенно наглядна здесь попытка Дильтея апеллировать к самостоятельности метода гуманитарных наук, обосновывая ее отношением их к своему объекту8. Подобная апелляция звучит в конце концов достаточно по-аристотелевски и демонстрирует подлинный отк^з от естественнонаучного образца. Однако Дильтей возводит эту самостоятельность гуманитарных методов в«е же к старому бэконовскому тезису «natura parendo vin-citur» («природу побеждают, подчиняясь») 9 , а это наносит чувствительный удар классически-романтическому наследию, овладеть которым так стремился Дильтей. Таким образом, даже Дильтей, которому историческое образование давало преимущества по отношению к современному неокантианству, в своих логических построениях, в сущности, недалеко вышел за пределы скромной констатации, провозглашенной Гельмгольцем. Сколько бы Дильтей ни защищал теоретико-познавательную самостоятельность гуманитарных наук, но то, что в современной науке называется методом, повсюду одинаково 48 и лишь проявляется в области естественных наук с наибольшей последовательностью. Не существует никакого собственного метода гуманитарных наук, но, пожалуй, можно вслед за Гельмгольцем спросить, в каком объеме здесь употребляется понятие метода и не влияют ли на стиль работы в гуманитарных науках некоторые связанные с ними условия в большей степени, нежели индуктивная логика. Гельмгольц верно подметил это, когда он, желая реабилитировать гуманитарные науки, говорил о памяти, авторитете и психологическом такте, которые в этой области знания выдвигаются на место осознанного умозаключения. На чем основывается такой такт? Как он возникает? Содержится ли научность гуманитарных наук скорее в нем, нежели в их методике? Поскольку мотивация подобных вопросов создается гуманитарными науками, что препятствует внедрению современности в научные понятия, они были и остаются проблемой собственно философской. Ответ, который дали на эти вопросы Гельмгольц и его век, не может нас удовлетворить; они следовали за Кантом, ориентируя понятия науки и познания на образец естественных наук и занимаясь поисками отличительных особенностей гуманитарных наук в художественных моментах (художественное чутье, художественная индукция). При этом картина труда ученого в естественнонаучных областях, даваемая Гельмгольцем, получается довольно односторонней, когда он умалчивает о «быстрых молниях духа» (то есть о том, что называют озарением) и предпочитает находить здесь лишь «железный труд самоосознаваемого умозаключения». Он опирается на свидетельство Дж. С. Милля, согласно которому «индуктивные науки в новейшее время больше сделали для прогресса логического метода, чем все профессиональные философы» 10. Эти науки он признает образцом научного метода. Однако Гельмгольцу известно, что историческое исследование предопределяется совершенно иным типом познания, нежели то, которое служит изучению законов природы. Он пытается поэтому утверждать, что индуктивный метод применительно к историческому познанию находится в иных условиях, нежели при исследовании природы. В этой связи он обращается к различению природы и свободы, лежащему в основе кантианской философии. Историческое познание, по его мнению, именно потому столь своеобразно, что в его сфере - не законы природы, а добровольное подчинение практиче- 49 ским законам, то есть заповедям. Мир человеческой свободы незнаком поэтому с отсутствием исключений, утвержденным для законов природы. Этот ход мыслей тем не менее малоубедителен. Он не соответствует ни намерениям Канта, в соответствии с которыми индуктивное исследование мира человеческой свободы должно основываться на его различении природы и свободы, ни собственным идеям индуктивной логики. Милль был более последователен, методично вынося за скобки проблему свободы. Но вдобавок непоследовательность, с которой Гельмголыд, опирается на Канта ради оправдания гуманитарных наук, приносит и ложные плоды, так как, согласно Гельмгольцу, эмпиризм этих наук следует расценивать так же, как эмпиризм прогнозов погоды, а именно как отказ от активной позиции и попытку положиться на случай. Но на самом деле гуманитарные науки далеки от того, чтобы чувствовать свою неполноценность относительно естественных. В духовных последователях немецкой классической философии, напротив, развивалось гордое самоощущение того, что они являются истинными защитниками гуманизма. Эпоха немецкого классицизма не только принесла обновление литературы и эстетической критики, которые смогли преодолеть отжившие идеалы барокко и рационализм Просвещения, но и придала совершенно новое содержание понятию гуманности, этому идеалу просвещенного разума. Прежде всего Гердер превзошел перфекционизм Просвещения благодаря новому идеалу «образования человека» и тем самым подготовил почву, на которой в XIX веке смогли развиться исторические науки. Понятие образования (Bildung), в то время завладевшее умами, было, вероятно, величайшей мыслью XVIII века, и именно оно обозначил« стихию., в которой существовали гуманитарные науки XIX века, даже если они не знали еще ее гносеологического обоснования. Ь) ВЕДУЩИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ а) Образование Понятие образования помогает наиболее отчетливо ощутить, как глубока духовная эволюция, позволяющая нам все еще чувствовать себя как бы современниками 50 Гёте и, напротив, заставляющая уже век барокко считать доисторическим временем. Наиболее значимые понятия и обороты речи, которыми мы привыкли оперировать, приняли свой облик именно в этом процессе, и тот, кто не желает заниматься языком, отдаваясь на волю его стихии, а стремится обрести самостоятельное и обоснованное понимание истории, обнаруживает, что вынужден переходить от одной проблемы из области истории слов и понятий к другой. В дальнейшем изложении мы попытаемся коснуться лишь предпосылок к огромной рабочей задаче, встающей здесь перед исследователями и способствующей философской постановке проблемы. Такие понятия, как «искусство», «история», «творчество», «мировоззрение», «переживание», «гений», «внешний мир», «внутренний мир», «выражение», «стиль», «символ», для нас само собой разумеющиеся, таят в себе бездну исторических коннотаций. Если мы обратимся к понятию образования, значение которого для гуманитарных наук уже подчеркнули, то окажемся в счастливом положении. В нашем распоряжении имеется компактное исследование истории этого слова ": его происхождения, коренящегося в средневековой мистике, его дальнейшего существования в мистике барокко, его религиозно обоснованной спиритуализации в«Мес-сиаде» Клопштока, захватившей целую эпоху, и, наконец, его основополагающего определения Гердером как «воз-растан_и_я_к.г^жадаосхи». Религия образования в Х1Х~веке сохранила в себе глубинные параметры этого слова, и наше понятие об образовании происходит именно отсюда. Применительно к привычному нам значению слова «образование» первая важная констатация состоит в том, что более старое понятие «естественного образования» как формирования внешних проявлений (строение частей тела, пропорциональное телосложение) и вообще произведения природы (например, «горообразование»), уже почти полностью отделилось от нового понятия. Теперь «образование» теснейшим образом связано с понятием культуры и обозначает в конечном итоге специфический человеческий способ преобразования природных задатков и возможностей. Окончательная шлифовка этого понятия, стимулированная Гердером, закончилась в период между Кантом и Гегелем. Кант еще не употребляет слово «образование» именно в таком значении и в такой связи. Он говорит о «культуре» способностей (или «природных задатков»), которая в этом качестве представляет акт свободы действующего субъекта. Так, среди обязанностей по 51 отношению к самому себе он называет также обязанность «не давать как бы покрываться ржавчиной» своему таланту, не употребляя при этом слово «образование» " . Гегель, напротив, ведет речь о самообразовании и образовании, когда поднимает тот же вопрос об обязанностях по отношению к себе самому, что и Кант 13, а Вильгельм фон Гумбольдт полностью воспринимает своим тонким слухом, составлявшим его отличительную черту, уже всю разницу в значении «культура» и «образование»: «...но когда мы на нашем языке говорим «образование», то имеем в виду при этом нечто одновременно высокое и скорее внутреннее, а именно вид разумения, который гармонически изливается на восприятие и характер, беря начало в опыте и чувстве совокупно духовного и чувственного стремления» м. Здесь «образование» уже не равнозначно культуре, то есть развитию способностей или талантов. Такое изменение значения слова «образование» скорее пробуждает старые мистические традиции, согласно которым человек носит и пестует в душе образ Бога, чьим подобием он и создан. Латинский эквивалент этого слова - formatio, и ему соответствуют в других языках, например в английском (у Шефтсбери) form и formation. В немецком языке со словом «образование» долго конкурировали соответствующие производные понятия forma, например формирование, формация (Formierung, Formation). Со времен аристотелизма понятие «форма» было полностью отделено Возрождением от своего технического значения и интерпретировалось чисто динамически и в естественном смысле. Тем не менее победа слова «образование» над «формой» представляется неслучайной, так как в «образовании» (Bildung) скрывается «образ» (Bild). Понятие формы отступает перед той таинственной двусто-ронностью, с которой «образ» включает в себя одновременно значения отображения, слепка (Nachbild) и образца (Vorbild). То, что «образование» (как и более современное слово «формация») скорее обозначает результат процесса становления, нежели сам процесс, соответствует распространенному перенесению значения становления на бытие. Здесь перенос вполне правомерен, так как результат образования не представляется по типу технического намерения, но проистекает из внутреннего процесса формирования и образования и поэтому постоянно пребывает в состоянии продолжения и развития. Не случайно слово «образование» тождественно греческому physis. Образование в столь же малой степени, что и природа, знает 52 о чем бы то ни было сверх поставленных целей. (Следует с недоверием отнестись к слову и связанному с ним концепту «цель образования», за которым скрывается некое вторичное «образование». Образование не может быть собственно целью, к нему нельзя в этом качестве стремиться, будь это хотя бы в рефлексиях воспитателя.) Именно в этом и состоит превосходство понятия образования по отношению к простому культивированию имеющихся задатков, от которого оно произошло. Культивирование задатков - это развитие чего-то данного; здесь простыми средствами достижения цели выступает упражнение и прилежание, перешедшие в привычку. Так, учебный материал языкового учебника - это всего лишь средство, а не сама цель. Его усвоение служит только развитию языковых навыков. В процессе образования, напротив, то,. на чем и благодаря чему некто получает образование, должно быть усвоено целиком и полностью. В этом отношении в образование входит все, к чему оно прикасается, но все это входит не как средство, утрачивающее свои функции. Напротив, в получаемом образовании ничто не исчезает, но все сохраняется. Образование - подлинно историческое понятие, и именно об этом историческом харак- , тере «сохранения» следует вести речь для того, чтобы понять суть гуманитарных наук. Так уже первый взгляд на историю слова «образование» вводит нас в круг исторических понятий, размещенных Гегелем вначале в сфере «первой философии». На практике Гегель тончайшим образом разработал понятие о том, что же такое образование. Мы следуем здесь за ним 15. Он увидел также, что для философии «условия ее существования кроются в образовании», а мы добавим к этому, что это справедливо и в отношении гуманитарных наук в целом. Ибо бытие духа в существенной степени связано с идеей образования. Человек отличается тем, что он разрывает с непос- ·* редственным и природным; этого требует от него духовная, разумная сторона его существа. «Взятый с этой стороны, он - не бывает от природы тем, чем он должен быть», и поэтому он нуждается в образовании. То, что Гегель назвал формальной сущностью образования, основано на его всеобщем. Исходя из понятия подъема ко всеобщему Гегель смог единообразно постичь то, что в его время понималось под образованием. Подъем ко всеобщности не ограничивается теоретическим образованием и вообще не подразумевает только лишь теоретический аспект в противоположность практическому, но охватывает сущностное 53 определение человеческой разумности в целом. Общая сущность человеческого образования состоит в том, что человек делает себя во всех отношениях духовным существом. Тот, кто предается частностям, необразован, например тот, кто не обуздывает свой слепой, несоразмерный и безотносительный гнев. Гегель показывает, что у такого человека изначально отсутствует способность к абстрагированию: он не может отвлечься от самого себя и взглянуть на то общее, которым соразмерно и относительно определяется его особенное. Образование как подъем к всеобщему является тем самым задачей человека. Она требует пожертвовать общему особенным. Негативно жертвование особенностями обозначает обуздание влечений и тем самым свободу от их предметов и свободу для своей предметности. Здесь дедукции феноменологической диалектики дополняют то, что было введено в «Пропедевтике». В «Феноменологии духа» Гегель развивает генезис подлинно свободного «в себе и для себя» самосознания и показывает, что сущность труда состоит в том, чтобы создать вещь, а не в том, чтобы ее потребить 1б. Работающее сознание вновь обретает себя как самостоятельное сознание в самостоятельном существовании, которое труд придает вещи. Труд - это обузданное влечение. Пока оно формирует предметность, то есть действует самозабвенно и обеспечивает общее, работающее сознание поднимается над непосредственностью своего бытия к всеобщности, или, как выразился Гегель, пока оно создает, формирует предмет, оно образует самое себя. При этом он подразумевает следующее: в той мере, в какой человек овладел «умением», достиг ловкости в работе, он получил и собственное самоощущение. То, в чем, как ему кажется, ему отказано в его самозабвенном служении, коль скоро он целиком подчиняется чужому разуму, становится его уделом, как только он обретает трудовое сознание. И в этом качестве он находит в себе свой собственный разум, и совершенно правильно утверждать о труде, что он образовывает человека. Самоощущения работающего сознания содержат все моменты того, что составляет практическое образование: дистанцию от непосредственности влечений, личных потребностей и приватных интересов, то есть требование всеобщности. В «Пропедевтике» Гегель, подчеркивая, что сущность практического образования состоит в стремлении к всеобщему, показывает, что оно предстает и в умеренности, которая ограничивает безмерность в удовлетворении по- 54 требностей и приложении сил к всеобщему. Оно же наличествует и в рассудительности, проявляемой по отношению к отдельным состояниям или занятиям, в учитыва-нии и того другого, что еще может быть необходимым. Но в любом призвании есть что-то от судьбы, от внешней необходимости, и любое призвание требует предаться выполнению задач, которые никак нельзя расценивать как преследование личных целей. Практическое образование сказывается в том, что профессиональное дело выполняют целиком и всесторонне. Но это включает и преодоление того чуждого, что есть в работе по отношению к человеку, то есть полное претворение человеком этого чуждого в свое собственное. Тем самым отдать себя общему в своем деле означает одновременно уметь себя ограничивать, то есть сделать свое призвание целиком своим делом. И тогда для человека оно уже не преграда. В этом гегелевском описании практического образования можно увидеть основополагающее определение исторического духа: примирение с самим собой, узнавание себя в инобытии. Это определение окончательно проясняется в идее теоретического образования, ибо теоретическая деятельность как таковая - это уже отчуждение, а именно стремление «заниматься не-непосредственным, чуждым, принадлежащим воспоминанию, памяти и мышлению». Итак, теоретическое образование выводит за пределы того, что человек непосредственно знает и постигает. Оно состоит в том, чтобы научиться придавать значение и другому и находить обобщенные точки зрения, чтобы «воспринимать объективное в его свободе» и без своекорыстных интересов 17. Именно поэтому всякое занятие образованием ведет через развитие теоретических интересов, и Гегель обосновывает особую пригодность для образования изучения мира и языка древних. Это обусловлено тем, что такой мир достаточно далек нам и чужд, чтобы могло оказать свое положительное воздействие то необходимое расстояние, которое его от нас отделяет, однако он «одновременно содержит все исходные моменты и нити возвращения нас к самим себе, но в виде истинно всеобщей сущности духа» "8. В этих словах директора гимназии у Гегеля можно увидеть типичный предрассудок приверженца классицизма, полагающего, что именно у древних особенно легко найти всеобщую сущность духа. Но основная идея сохраняет свою справедливость: узнавать в чужом свое, осваиваться в нем - вот в чем основное движение духа, смысл которого - только в возвращении к себе самому из инобытия. В остальном все теоретическое образование, включая изучение иностранных языков и чуждых мироощущений,- простое продолжение процесса образования, заложенного гораздо раньше. Каждый отдельный индивид, поднимающийся от своей природной сущности в сферу духа, находит в языке, обычаях, общественном устройстве своего народа заданную субстанцию, которой он желает овладеть, как это бывает при обучении речи. Таким образом, этот отдельный индивид постоянно находится на путях образования, и его естественность постоянно снимается соразмерно с тем, что мир, в который он врастает, образуется человеческим языком и человеческими обычаями. Гегель подчеркивает: в этом своем мире народ обретает бытие. Он вырабатывает его в себе и из себя и таким же способом устанавливает, чем он является в себе. Тем самым ясно, что сущность образования составляет не отчуждение как таковое, а возвращение к себе, предпосылкой которого, однако, и служит отчуждение. При этом образование следует понимать не только как такой процесс, который обеспечивает исторический подъем духа в область всеобщего; одновременно это и стихия, в которой пребывает образованный человек. Что же это за стихия? Здесь и начинаются те вопросы, которые мы уже обращали к Гельмгольцу. Ответ Гегеля не может нас удовлетворить, так как для него образование совершается как движение от отчуждения и усвоения к полному овладению субстанцией, к отрыву от всех предметных сущностей, что достижимо только в абсолютном философском знании. Действительное образование, подобно стихии духа, отнюдь не связано с гегелевской философией абсолютного духа, так же как подлинное понимание историчности сознания мало связано с его философией мировой истории. Необходимо уяснить, что и для исторических наук о духе, которые отошли от Гегеля, идея совершенного образования остается необходимым идеалом, так как образование - это именно та стихия, в которой они движутся. И то, что более древнее словоупотребление называет «совершенным образованием» в области телесных феноменов,- это ведь не столько последняя фаза развития, сколько состояние зрелости, которое оставило позади всякое развитие и обеспечивает гармоническое движение всех членов. Именно в этом смысле гуманитарные науки предполагают, что научное сознание предстает уже образованным и как раз благодаря этому оно обладает подлинным тактом, которому нельзя ни научиться, ни подражать и который под- 56 держивает образование суждения в гуманитарных науках и их способ познания. То, что Гельмгольц описывает как рабочую специфику гуманитарных наук, в особенности то, что он называет художественным чувством и тактом, предполагает на самом деле стихию образования, внутри которой обеспечивается особо свободная подвижность духа. Так, Гельмгольц говорит о «готовности, с которой самый разнородный опыт должен внедряться в память историка или филолога» 19. Весьма поверхностно это можно описать с точки зрения того идеала «железного труда самоосознаваемого умозаключения», в свете которого мыслит себя естествоиспытатель. Понятия памяти в том смысле, в котором он его употребляет, недостаточно для объяснения составляющих этого труда. На самом деле этот такт или это чувство понимаются неправильно, когда под ними подразумевают привходящую душевную способность, обслуживаемую цепкой памятью и таким образом достигающую знаний, не поддающихся строгому контролю. То, что обеспечивает возможность такой функции такта, что помогает обрести его и им располагать,- это не простое психологическое устройство, благоприятное по отношению к гуманитарному знанию. Сущность самой памяти нельзя понять правильно, не усматривая в ней ничего, кроме общего задатка или способности. Сохранение в памяти, забывание и вспоминание заново принадлежат к историческим состояниям человека и сами образуют часть его истории и его образования. Если кто-то использует, свою память как простую способность - а всякие технические способы есть упражнение в таком употреблении,- он еще не относит ее к сфере наиболее ему присущего. Память следует образовывать, ибо она - не память вообще и для него. Что-то в памяти хранят, что-то другое - нет, что-то хотят удержать в памяти, а что-то - из нее изгнать. Пришло время освободить феномен памяти от психологического уравнивания со способностями и понять, что она представляет существенную черту конечно исторического бытия человека. Наряду со способностями хранить в памяти и вспоминать, связанными некоторым отношением, в то же отношение вступает неким способом, на который еще не было обращено должного внимания, и способность забывать, которая является не только выпадением и недостатком, но и - это прежде всего подчеркнул Ф.Ницше - условием жизни духа20. Только благодаря забыванию дух сохраняет возможность 57 . тотального обновления, способность на все смотреть свежим глазом, так что давно известное сплавляется с заново увиденным в многослойное единство. «Сохранение в памяти» столь же неоднозначно. Будучи памятью, (μνήμη), оно связано с воспоминанием (άνάμνησις) 21. Но то же самое справедливо и в отношении употребляемого Гельм-гольцем понятия «такт». Под тактом мы понимаем определенную восприимчивость и способность к восприятию ситуации и поведения внутри нее, для которой у нас нет знания, исходящего из общих принципов. В силу этого понятие такта невыразительно и невыразимо. Можно что-то тактично сказать. Но это всегда будет значить, что при этом что-то тактично обходят и не высказывают и что бестактно говорить о том, что можно обойти. Но «обойти» не означает отвернуться от чего-то; напротив, это что-то нужно иметь перед глазами, чтобы об него не споткнуться, а пройти мимо него. Тем самым такт помогает держать дистанцию, избегать уязвлений и столкновений, слишком близкого соприкосновения и травмирования интимной сферы личности. Но такт, о котором говорит Гельмгольц, не просто идентичен с этим чувственным и бытовым феноменом. Однако существенно общее здесь налицо, так как и действующий в гуманитарных науках такт не исчерпывается чувственным и неосознаваемым характером; скорее это способ познавания и способ бытия одновременно. Уяснить это помогает вышеприведенный анализ понятия образования. То, что Гельмгольц называет тактом, включает в себя образование и представляет собой как его эстетическую, так и историческую функцию. Нужно обладать чувством как для эстетического, так и для исторического или образовывать это чувство, чтобы быть в состоянии положиться на свой такт в гуманитарных трудах. А так как этот такт - не просто естественное устройство, мы по праву говорим об эстетическом или историческом сознании, а не о собственном чувстве, хотя, очевидно, такое сознание соотносится с непосредственностью чувства, то есть в отдельных случаях оно может наверняка производить расчленение и оценку, хотя и не в силах привести для этого оснований. Так, тот, кто обладает эстетическим чувством, умеет различать прекрасное и безобразное, хорошее или плохое качество, а тот, кто обладает историческим чувством, знает, что возможно и что невозможно для определенной эпохи, и обладает чувством инаковости прошлого по отношению к настоящему. Если все это зиждется на образовании, то это означает, С t Ό что оно не есть вопрос опыта или позиции, но вопрос прошедшего становления бытия. Этому не в силах помочь ни более точные наблюдения, ни более основательное изучение традиции, если не подготовлена восприимчивость к инаковости произведения искусства или прошлого, Именно с этим мы сталкивались, когда, следуя за Гегелем, подчеркивали такой общий отличительный признак обра-зования^ как его открытость всему иному, другим, более обобщенным точкам зрения. В образовании заложено общее чувство меры и дистанции по отношению к нему самому, и через него - подъем над собой к всеобщему. Рассматривать как бы на расстоянии себя самого и свои личные цели означает рассматривать их так, как это делают другие. Эта всеобщность - наверняка не общность понятий или разума. Исходя из общего, определяется особенное и ничто насильно не доказывается. Общие точки зрения, для которых открыт образованный человек, не становятся для него жестким масштабом, который всегда действен; скорее они свойственны ему только как возможные точки зрения других людей. В такой степени образованное сознание на практике действительно обладает скорее характером чувства, так как любое чувство, например зрение, представляется общим ровно настолько, насколько оно охватывает свою сферу, насколько широкое поле ему открывается и насколько оно способно производить различения внутри открывшегося ему. Образованное сознание превосходит любое из естественных чувств тем, что эти последние ограничены каждое определенной сферой, оно же обладает способностью действовать во всех направлениях; оно - общее чувство. Общее чувство - вот какова на деле формулировка сущности образования, в которой слышится отзвук широ--ких исторических связей. Осмысление понятия образования, лежащее в основе размышлений Гельмгольца, возвращает нас к далекой истории этого понятия. Проследим за этой связью, если мы хотим освободить проблему философского подхода к гуманитарным наукам от искусственной узости, сообщенной ей учением о методе XIX века. Современное понятие науки и подчиненное ему понятие метода для нас недостаточны. То, что делает гуманитарные науки науками, скорее можно постичь, исходя из традиционного понятия образования, чем из методических идей современной науки. Это - гуманистическая традиция, и к ней мы обратимся. В сопоставлении с притязаниями современной науки она получает новое значение. Очевидно, стоило бы специально проследить, как со 59 времени гуманизма нашла свою аудиторию критика «школьной» науки и как эта критика эволюционировала вслед за эволюциями своих противников. Прежде всего здесь возродились к жизни античные мотивы. Энтузиазм, с которым гуманисты прокламировали греческий язык и путь эрудиции, был чем-то большим, нежели просто страстью к антиквариату. Пробуждение к жизни классических языков принесло с собой новую оценку риторики. Она открыла фронт против «школы», то есть против схоластической науки, и служила идеалу человеческой мудрости, который был недостижим в рамках «школы»; такое противопоставление воистину стоит уже у истоков философии. Платоновская критика софистов, а еще более - его своеобразно амбивалентное отношение к Исократу поясняют заложенную здесь философскую проблему. В связи с новым осознанием метода в естествознании XVII века эта древняя проблема еще увеличивает свою критическую остроту. Перед лицом притязаний этой новой науки на исключительность все более настоятельно встает вопрос, не может ли единственный источник истины лежать в гуманистическом понятии образования. В самом деле, мы увидим, что гуманитарные науки XIX века, не сознавая этого, черпали свою единственную жизненную силу из сохраняющей жизнеспособность гуманистической мысли об образовании. При этом в основном само собой разумеется, что определяющими здесь выступают гуманистические штудии, а не математика, ибо что могло бы означать новое учение о методе XVII века для гуманитарных наук? Стоит лишь прочесть соответствующие главы «Логики Пор-Роя-ля», касающиеся законов разума в приложении к исторической истине, чтобы понять всю скудность того, что из этой"методической идеи могут почерпнуть гуманитарные науки 2. Все извлечения из нее сводятся к голой тривиальности, к чему-то вроде того, что оценка события во всей его истинности требует внимания к сопровождающим его обстоятельствам (circonstances). Янсенисты таким способом доказательства пытались дать методическое руководство для решения вопроса о том, в какой степени заслуживают доверия чудеса. Они стремились тем самым противопоставить неконтролируемой вере духа в чудо новый метод и полагали, что таким образом удастся легитимировать подлинные чувства библейского предания и церковной традиции. Новая наука на службе древней церкви - слишком очевидно, что эти отношения не обещали быть длительными, и можно себе представить, что должно 60 было случиться, когда сами предпосылки христианства стали проблематичными. Методический идеал естествознания в его применении к достоверности исторических свидетельств библейского предания должен был привести к совершенно иным, катастрофическим для христианства результатам. Путь от критики чуда в стиле янсенистов к исторической библейской критике не так далек, Спиноза - хороший тому пример. В дальнейшем мы покажем, что последовательное применение этой методики как единственного критерия определения истины в гуманитарных науках вообще равнозначно ее самоуничтожению. &) Sensus communis (здравый смысл) При таком положении вещей нетрудно, опираясь на гуманистическую традицию, задаться вопросом о том, какому пути познания могут научиться у такой методики гуманитарные науки. Ценный исходный пункт для этого рассуждения представляет труд Вико «О смысле наук нашего^ времени» 23. Предпринятая Вико защита гуманизма, как показывает уже само заглавие, опосредована иезуитской педагогикой и в той же степени, что против Декарта, направлена и против янсенизма. Этот педагогический манифест Вико, как и его проект «новой науки», основывается на старых истинах. Он апеллирует к здравому смыслу, к общественному чувству и к гуманистическому идеалу элоквенции, то есть к тем моментам, которые были заложены уже в античном понятии мудрости. «Благоре-чие» (ευ λέγειν) в связи с этим становится внутренне двузначной формулой, а отнюдь не одним лишь риторическим идеалом. Оно подразумевает также говорение правильного, то есть истинного, а не только искусство речи, умение что-нибудь хорошо сказать. Поэтому в древности этот.идеал, как известно, прокламировался и учителями философии, и учителями риторики, а ведь риторика с давних пор враждовала с философией и претендовала на то, чтобы в противоположность праздным спекуляциям «софистов» сообщать подлинную жизненную мудрость. Вико, который сам был преподавателем риторики, находится при этом, следовательно, в русле идущей от античности гуманистической традиции. Очевидно, эта традиция, и в особенности позитивная двузначность риторического идеала, узаконенного не только Платоном, но и антириторическим методологизмом Нового времени, имеет значение и для самоосознания гуманитарных наук. В этой связи у Вико звучит уже многое 61 из того, что нас занимает. Его апелляция к здравому смыслу таит в себе, однако, еще один момент античной традиции, кроме риторического: противопоставление «школьного» ученого и мудреца, на которое Вико опирается,- противопоставление, имевшее своим первообразом кинического Сократа и своей вещественной основой - противопоставление «софии» и «фронесис», впервые разработанное Аристотелем и развитое перипатетиками до уровня критики теоретического жизненного идеала 24, а в эллинистическую эпоху ставшее одной из определяющих образа мудреца, в особенности после того, как греческий идеал образования сплавился с самосознанием руководящего политического слоя Рима. Римское правоведение позднейшего времени также, как известно, развивается на фоне правового искусства и правовой практики, которые соприкасаются скорее с практическим идеалом «фронесис», нежели с теоретическим идеалом «философии» 25. Со времен возрождения античной философии и риторики образ Сократа окончательно превратился в антитезис науки, о чем свидетельствует фигура дилетанта, занявшая принципиально новую позицию между ученым и мудрецом 26. Риторическая традиция гуманизма также умело апеллировала к Сократу и к критике скептиками догматиков. Так, Вико критикует стоиков за то, что они верят в разум как в régula veri (правило истины), и, на"против, восхваляет древних академиков, утверждавших только знание о незнании, а затем и академиков Нового времени за то, что они сильны в искусстве аргументации, которое относится к искусству речи. Обращение Вико к здравому смыслу обретает, однако, в русле этой гуманистической традиции особую окраску. В области науки тоже существует столкновение старого и нового, и то, что имеет в виду Вико,- это уже не противопоставление «школе», а особое противопоставление современной ему науке. Критическая наука Нового времени имеет свои преимущества, которых он не оспаривает, но указывает их границы. Мудрость древних, их стремление к рассудительности (prudentia) и красноречию (eloquentia), по мнению Вико, не утратили значения и перед лицом этой новой науки и ее математических методов. Применительно" к проблемам воспитания они оказываются не чем иным, как образованием здравого смысла, питаемым не истинным, а вероятным. Здесь для нас важно следующее: здравый смысл в этой связи явно означает не только ту общую способность, которая есть у всякого человека, но одновременно и чувство, порождающее общность. Вико 62 считает, что направленность человеческой воле придает не абстрактная общность разума, а конкретное общее, общность группы, народа, нации или всего человеческого рода. Развитие этого общего чувства тем самым получает решающее значение для жизни. На этом общем чувстве истины и права, которое в основе своей не является знанием, но позволяет находить путеводный свет, Вико основывает значение красноречия и его право на самостоятельность. Ведь воспитание не может идти путем критического исследования. Юношество нуждается в образах для развития фантазии и памяти. Но именно этого и не предоставляет изучение наук в духе новейшей критики. Так, для Вико старая топика отодвигает в сторону картезианскую критику. Топика - это искусство находить аргументы, она служит для развития чувства убежденности, которое функционирует инстинктивно и мгновенно (ex tempore), и именно поэтому его нельзя заменить наукой. Эти определения Вико выявляют свою апологетичность. Они косвенно признают новое, истинностное понятие науки, но при этом исключительно защищают право на существование вероятного. В этом Вико, как мы видели, следует древней риторической традиции, восходящей еще к Платону. Но то, что Вико подразумевает, выходит далеко за пределы риторического убеждения. По сути дела, здесь, как мы уже говорили, действует аристотелевское противопоставление практического и теоретического знания, которое нельзя редуцировать до противопоставления истинного и вероятного. Практическое знание, «фронесис» - это другой тип знания 27. Это означает в итоге, что оно направлено на конкретную ситуацию. Следовательно, оно требует учета «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Именно это подчеркнуто выделяется у Вико; правда, он обращает внимание лишь на то, что это знание отходит от рационального понятия знания. Но на самом деле это не идеал квиетизма. Аристотелевское противопоставление имеет в виду еще и нечто иное, нежели только противоположность знания, основанного на общих принципах, и знания конкретного, нечто иное, нежели только способность подведения единичного под общее, которую мы называем «способностью суждения». В нем скорее действует позитивный этический мотив, входящий в учение римских стоиков о здравом смысле. Осознание и чувственное преодоление конкретной ситуации требуют такого подведения под общее, то есть цели, которую преследуют, чтобы достичь того, что правильно. Следо- 63Гадамер "Истина и метод"
Часть первая
Изложение проблемы истины в применении к познанию искусства I. Расширение эстетического измерения в область трансцендентного 1. Значение гуманистической традиции для гуманитарных наук а) ПРОБЛЕМА МЕТОДА Логическое самоосознание гуманитарных наук, сопровождавшее в XIX веке их фактическое формирование, полностью находится во власти образца естественных наук. Это может показать уже само рассмотрение термина «гуманитарная наука» (Geisteswissenschaft, букв, «наука о духе»), хотя привычное нам значение он получает только во множественном числе. То, что гуманитарные науки понимаются по аналогии с естественными, настолько очевидно, что перед этим отступает призвук идеализма, заложенный в понятии духа и науки о духе. Термин «гуманитарные науки» получил распространение главным образом благодаря переводчику «Логики» Джона Стюарта Милля. В своем труде Милль последовательно пытается обрисовать возможности, которыми располагает приложение индуктивной логики к области гуманитарных наук («moral sciences», букв, «наук о морали»). Переводчик в этом месте ставит «Geisteswissenschaften» " . Уже из самого хода рассуждений Милля следует, что здесь речь идет вовсе не о признании некоей особой логики гуманитарных наук, а, напротив, автор стремится показать, что в основе всех познавательных наук лежит индуктивный метод, который предстает как единственно действенный и в этой области. Тем самым Милль остается в русле английской традиции, которая была наиболее выразительно сформулирована Юмом во введении к его «Трактату» 2 . В науках о морали тоже необходимо познавать сходства, регулярности, закономерности, делающие предсказуемыми отдельные явления и процессы. Однако и 44 в области естественных наук эта цель не Всегда равным образом достижима. Причина же коренится исключительно в том, что данные, на основании которых можно было бы познавать сходства, не всегда представлены в достаточном количестве. Так, метеорология работает столь же методично, что и физика, но ее исходные данные лакунар-ны, а потому и предсказания ее неточны. То же самое справедливо и в отношении нравственных и социальных явлений. Применение индуктивного метода в этих областях свободно от всех метафизических допущений и сохраняет полную независимость от того, каким именно мыслится становление наблюдаемого явления. Здесь не примысливают, например, причины определенных проявлений, но просто констатируют регулярность. Тем самым независимо от того, верят ли при этом, например, в свободу воли или нет, в области общественной жизни предсказание в любом случав оказывается возможным. Извлечь из наличия закономерностей выводы относительно явлений — никоим образом не означает признать что-то вроде наличия взаимосвязи, регулярность которой допускает возможность предсказания. Осуществление свободных решений — если таковые существуют— не прерывает закономерности процесса, U само по себе принадлежит к сфере обобщений и регулярностей, получаемых благодаря индукции. Таков идеал «естествознания "об обществе», который обретает здесь программный характер и которому мы обязаны исследовательскими успехами во многих областях; достаточно вспомнить о так называемой массовой психологии. Однако при этом выступает, собственно, та проблема, которую ставят перед мышлением гуманитарные науки: их суть не может быть верно понята, если измерять их по масштабу прогрессирующего познания закономерностей. Познание социально-исторического мира не может подняться до уровня науки путем применения индуктивных методов естественных наук. Что бы ни означало здесь слово «наука» и как бы ни было распространено в исторической науке в целом применение более общих методов к тому или иному предмету исследования, историческое познание тем не менее не имеет своей целью представить конкретное явление как случай, иллюстрирующий общее правило. Единичное не служит простым подтверждением закономерности, которая в практических обстоятельствах позволяет делать предсказания. Напротив, идеалом здесь должно быть понимание самого явления в его однократной и исторической конкретности. При 45 этом возможно воздействие сколь угодно большого объема общих знаний; цель же состоит не в их фиксации и расширении для более глубокого понимания общих законов развития людей, народов и государств, но, напротив, в понимании того, каковы этот человек, этот народ, это государство,каково было становление, другими словами — "как смогло получиться, что они стали такими. Что же это за познание, позволяющее понять нечто как таковое через понимание путей его становления? Что здесь называется наукой? И даже если признать, что идеал такого рода познания принципиально отличен по типу и установкам от принятого в естественных науках, все-таки остается соблазн обратиться в данном случае, по меньшей мере привативно, к такой характеристике, как «неточные науки». Даже попытка (столь же значимая, сколь и справедливая) уравнять в правах гуманитарные и естественные науки, предпринятая Германом Гельмгольцем в его знаменитой речи 1862 года, как бы ни подчеркивал он превосходство гуманитарных наук в их общечеловеческом значении, сохранила негативность их логической характеристики с точки зрения методического идеала естественных наук3. Гельмгольц различает два вида индукции: логическую и художественно-инстинктивную. Но это означает, что и тот и другой способ мышления он различает в их основе не логически, а психологически. Оба они пользуются индуктивными выводами, но процесс, предшествующий выводу в гуманитарных науках,— это неосознаваемое умозаключение. Тем самым практика гуманитарной индукции связана с особыми психологическими условиями. Она требует своего рода чувства такта, и для нее необходимы разнообразные духовные свойства, например богатая память и признание авторитетов, в то время как самоосознанные умозаключения ученых-естественников, напротив, основываются полностью на включении собственного сознания. Даже если признать, что великий естествоиспытатель устоял перед соблазном сделать из своего собственного способа работы общеобязательную норму, он тем не менее явно не располагает никакой другой логической возможностью охарактеризовать результаты гуманитарных наук, как только с помощью привычного ему благодаря «Логике» Милля понятия индукции. То, что фактическим образцом для наук XVIII века стала новая механика, достигшая триумфа в небесной механике Ньютона, было и для Гельмгольца все еще настолько само собой разумеющимся, что он даже не задался вопросом, например, 46 о том, какие философские предпосылки обеспечили становление этой новой для XVII века науки. Сегодня мы знаем, какое значение для этого имела парижская школа оккамистов4. Для Гельмгольца методический идеал естественных наук не нуждается ни в поисках исторического предшествования, ни в теоретико-познавательных ограничениях, а поэтому и работу ученых-гуманитариев он логически не в силах понять по-иному. Настоятельно требовала решения также насущная задача: поднять до логического самопознания такие достигшие полного расцвета исследования, как, к примеру, штудии «исторической школы». Уже в 1843 году И. Г. Дройзен, автор и первооткрыватель истории эллинизма, писал: «Наверное, нет ни одной области науки, которая столь удалена, теоретически оправдана, ограничена и расчленена, как история». Уже Дройзен нуждается в Канте, увидевшем в категорическом императиве истории «живой источник, ίίί>, которого струится историческая жизнь человечества». Он ожидает, «что глубже постигнутое понятие истории станет той точкой гравитации, где нынешние пустые колебания гуманитарных наук смогут обрести постоянство и возможности для дальнейшего прогресса» ° . Образец естественных наук, к которому здесь взывает Дройзен, понимается тем самым не содержательно, в смысле научно-теоретического уподобления, а, напротив, в том смысле, что гуманитарные науки должны найти обоснование в качестве столь же самостоятельной группы научных дисциплин. «История» Дройзена — это попытка решения данной проблемы. Дильтей, у которого значительно сильнее проявляется влияние естественнонаучного метода и эмпиризма мил-левской логики, тем не менее твердо придерживается романтико-идеалистических традиций в понимании гума-нитарности. Он также испытывает постоянное чувство превосходства по отношению к английской эмпирической школе, так как непосредственно наблюдает преимущества исторической школы сравнительно с любым естественнонаучным и естественноправовым мышлением. «Только из Германии может прийти действительно эмпирический метод, заступив на место предвзятого догматического эмпиризма. Милль догматичен по недостатку исторического образования»— такова заметка Дильтея на экземпляре «Логики» Милля 6. На деле вся напряженная, длившаяся десятилетиями работа, которую Дильтей затратил на то, чтобы обосновать гуманитарные науки, была " 47 постоянным столкновением с логическими требованиями, которые предъявляет к этим наукам знаменитая заключительная глава Милля. Тем не менее в глубине души Дильтей согласен с тем, что естественные науки — образец для гуманитарных, даже когда он пытается отстоять методическую самостоятельность последних. Это могут прояснить два свидетельства, которые одновременно указывают нам путь к дальнейшим наблюдениям. В некрологе, посвященном Вильгельму Шереру, Дильтей подчеркивает, что дух естественных наук сопровождал Шерера в его трудах, и делает попытку объяснить, почему именно Шерер находился под столь сильным влиянием английских эмпириков: «Он был современным человеком, и мир наших предков не был более родиной его духа и сердца; он был его историческим объектом» 7. Уже сам этот оборот показывает, что для Дильтея с научным познанием сопряжен разрыв жизненных связей, отход на определенную дистанцию от собственной истории, позволяющие превратить эти связи и эту историю в объекты. Можно сказать, что и Шерер и Дильтей применяют индуктивный! и сравнительный метод с подлинным индивидуальным (тактом и что такой такт возникает только на почве духов- ! ной культуры, сохраняющей живую связь с миром про- ; свещения и романтической веры в индивидуальность. Тем " не менее в своей научной концепции оба они руководствовались образцом естественных наук. Особенно наглядна здесь попытка Дильтея апеллировать к самостоятельности метода гуманитарных наук, обосновывая ее отношением их к своему объекту8. Подобная апелляция звучит в конце концов достаточно по-аристотелевски и демонстрирует подлинный отк^з от естественнонаучного образца. Однако Дильтей возводит эту самостоятельность гуманитарных методов в«е же к старому бэконовскому тезису «natura parendo vin-citur» («природу побеждают, подчиняясь») 9 , а это наносит чувствительный удар классически-романтическому наследию, овладеть которым так стремился Дильтей. Таким образом, даже Дильтей, которому историческое образование давало преимущества по отношению к современному неокантианству, в своих логических построениях, в сущности, недалеко вышел за пределы скромной констатации, провозглашенной Гельмгольцем. Сколько бы Дильтей ни защищал теоретико-познавательную самостоятельность гуманитарных наук, но то, что в современной науке называется методом, повсюду одинаково 48 и лишь проявляется в области естественных наук с наибольшей последовательностью. Не существует никакого собственного метода гуманитарных наук, но, пожалуй, можно вслед за Гельмгольцем спросить, в каком объеме здесь употребляется понятие метода и не влияют ли на стиль работы в гуманитарных науках некоторые связанные с ними условия в большей степени, нежели индуктивная логика. Гельмгольц верно подметил это, когда он, желая реабилитировать гуманитарные науки, говорил о памяти, авторитете и психологическом такте, которые в этой области знания выдвигаются на место осознанного умозаключения. На чем основывается такой такт? Как он возникает? Содержится ли научность гуманитарных наук скорее в нем, нежели в их методике? Поскольку мотивация подобных вопросов создается гуманитарными науками, что препятствует внедрению современности в научные понятия, они были и остаются проблемой собственно философской. Ответ, который дали на эти вопросы Гельмгольц и его век, не может нас удовлетворить; они следовали за Кантом, ориентируя понятия науки и познания на образец естественных наук и занимаясь поисками отличительных особенностей гуманитарных наук в художественных моментах (художественное чутье, художественная индукция). При этом картина труда ученого в естественнонаучных областях, даваемая Гельмгольцем, получается довольно односторонней, когда он умалчивает о «быстрых молниях духа» (то есть о том, что называют озарением) и предпочитает находить здесь лишь «железный труд самоосознаваемого умозаключения». Он опирается на свидетельство Дж. С. Милля, согласно которому «индуктивные науки в новейшее время больше сделали для прогресса логического метода, чем все профессиональные философы» 10. Эти науки он признает образцом научного метода. Однако Гельмгольцу известно, что историческое исследование предопределяется совершенно иным типом познания, нежели то, которое служит изучению законов природы. Он пытается поэтому утверждать, что индуктивный метод применительно к историческому познанию находится в иных условиях, нежели при исследовании природы. В этой связи он обращается к различению природы и свободы, лежащему в основе кантианской философии. Историческое познание, по его мнению, именно потому столь своеобразно, что в его сфере — не законы природы, а добровольное подчинение практиче- 49 ским законам, то есть заповедям. Мир человеческой свободы незнаком поэтому с отсутствием исключений, утвержденным для законов природы. Этот ход мыслей тем не менее малоубедителен. Он не соответствует ни намерениям Канта, в соответствии с которыми индуктивное исследование мира человеческой свободы должно основываться на его различении природы и свободы, ни собственным идеям индуктивной логики. Милль был более последователен, методично вынося за скобки проблему свободы. Но вдобавок непоследовательность, с которой Гельмголыд, опирается на Канта ради оправдания гуманитарных наук, приносит и ложные плоды, так как, согласно Гельмгольцу, эмпиризм этих наук следует расценивать так же, как эмпиризм прогнозов погоды, а именно как отказ от активной позиции и попытку положиться на случай. Но на самом деле гуманитарные науки далеки от того, чтобы чувствовать свою неполноценность относительно естественных. В духовных последователях немецкой классической философии, напротив, развивалось гордое самоощущение того, что они являются истинными защитниками гуманизма. Эпоха немецкого классицизма не только принесла обновление литературы и эстетической критики, которые смогли преодолеть отжившие идеалы барокко и рационализм Просвещения, но и придала совершенно новое содержание понятию гуманности, этому идеалу просвещенного разума. Прежде всего Гердер превзошел перфекционизм Просвещения благодаря новому идеалу «образования человека» и тем самым подготовил почву, на которой в XIX веке смогли развиться исторические науки. Понятие образования (Bildung), в то время завладевшее умами, было, вероятно, величайшей мыслью XVIII века, и именно оно обозначил« стихию., в которой существовали гуманитарные науки XIX века, даже если они не знали еще ее гносеологического обоснования. Ь) ВЕДУЩИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ а) Образование Понятие образования помогает наиболее отчетливо ощутить, как глубока духовная эволюция, позволяющая нам все еще чувствовать себя как бы современниками 50 Гёте и, напротив, заставляющая уже век барокко считать доисторическим временем. Наиболее значимые понятия и обороты речи, которыми мы привыкли оперировать, приняли свой облик именно в этом процессе, и тот, кто не желает заниматься языком, отдаваясь на волю его стихии, а стремится обрести самостоятельное и обоснованное понимание истории, обнаруживает, что вынужден переходить от одной проблемы из области истории слов и понятий к другой. В дальнейшем изложении мы попытаемся коснуться лишь предпосылок к огромной рабочей задаче, встающей здесь перед исследователями и способствующей философской постановке проблемы. Такие понятия, как «искусство», «история», «творчество», «мировоззрение», «переживание», «гений», «внешний мир», «внутренний мир», «выражение», «стиль», «символ», для нас само собой разумеющиеся, таят в себе бездну исторических коннотаций. Если мы обратимся к понятию образования, значение которого для гуманитарных наук уже подчеркнули, то окажемся в счастливом положении. В нашем распоряжении имеется компактное исследование истории этого слова ": его происхождения, коренящегося в средневековой мистике, его дальнейшего существования в мистике барокко, его религиозно обоснованной спиритуализации в«Мес-сиаде» Клопштока, захватившей целую эпоху, и, наконец, его основополагающего определения Гердером как «воз-растан_и_я_к.г^жадаосхи». Религия образования в Х1Х~веке сохранила в себе глубинные параметры этого слова, и наше понятие об образовании происходит именно отсюда. Применительно к привычному нам значению слова «образование» первая важная констатация состоит в том, что более старое понятие «естественного образования» как формирования внешних проявлений (строение частей тела, пропорциональное телосложение) и вообще произведения природы (например, «горообразование»), уже почти полностью отделилось от нового понятия. Теперь «образование» теснейшим образом связано с понятием культуры и обозначает в конечном итоге специфический человеческий способ преобразования природных задатков и возможностей. Окончательная шлифовка этого понятия, стимулированная Гердером, закончилась в период между Кантом и Гегелем. Кант еще не употребляет слово «образование» именно в таком значении и в такой связи. Он говорит о «культуре» способностей (или «природных задатков»), которая в этом качестве представляет акт свободы действующего субъекта. Так, среди обязанностей по 51 отношению к самому себе он называет также обязанность «не давать как бы покрываться ржавчиной» своему таланту, не употребляя при этом слово «образование» " . Гегель, напротив, ведет речь о самообразовании и образовании, когда поднимает тот же вопрос об обязанностях по отношению к себе самому, что и Кант 13, а Вильгельм фон Гумбольдт полностью воспринимает своим тонким слухом, составлявшим его отличительную черту, уже всю разницу в значении «культура» и «образование»: «...но когда мы на нашем языке говорим «образование», то имеем в виду при этом нечто одновременно высокое и скорее внутреннее, а именно вид разумения, который гармонически изливается на восприятие и характер, беря начало в опыте и чувстве совокупно духовного и чувственного стремления» м. Здесь «образование» уже не равнозначно культуре, то есть развитию способностей или талантов. Такое изменение значения слова «образование» скорее пробуждает старые мистические традиции, согласно которым человек носит и пестует в душе образ Бога, чьим подобием он и создан. Латинский эквивалент этого слова — formatio, и ему соответствуют в других языках, например в английском (у Шефтсбери) form и formation. В немецком языке со словом «образование» долго конкурировали соответствующие производные понятия forma, например формирование, формация (Formierung, Formation). Со времен аристотелизма понятие «форма» было полностью отделено Возрождением от своего технического значения и интерпретировалось чисто динамически и в естественном смысле. Тем не менее победа слова «образование» над «формой» представляется неслучайной, так как в «образовании» (Bildung) скрывается «образ» (Bild). Понятие формы отступает перед той таинственной двусто-ронностью, с которой «образ» включает в себя одновременно значения отображения, слепка (Nachbild) и образца (Vorbild). То, что «образование» (как и более современное слово «формация») скорее обозначает результат процесса становления, нежели сам процесс, соответствует распространенному перенесению значения становления на бытие. Здесь перенос вполне правомерен, так как результат образования не представляется по типу технического намерения, но проистекает из внутреннего процесса формирования и образования и поэтому постоянно пребывает в состоянии продолжения и развития. Не случайно слово «образование» тождественно греческому physis. Образование в столь же малой степени, что и природа, знает 52 о чем бы то ни было сверх поставленных целей. (Следует с недоверием отнестись к слову и связанному с ним концепту «цель образования», за которым скрывается некое вторичное «образование». Образование не может быть собственно целью, к нему нельзя в этом качестве стремиться, будь это хотя бы в рефлексиях воспитателя.) Именно в этом и состоит превосходство понятия образования по отношению к простому культивированию имеющихся задатков, от которого оно произошло. Культивирование задатков — это развитие чего-то данного; здесь простыми средствами достижения цели выступает упражнение и прилежание, перешедшие в привычку. Так, учебный материал языкового учебника — это всего лишь средство, а не сама цель. Его усвоение служит только развитию языковых навыков. В процессе образования, напротив, то,. на чем и благодаря чему некто получает образование, должно быть усвоено целиком и полностью. В этом отношении в образование входит все, к чему оно прикасается, но все это входит не как средство, утрачивающее свои функции. Напротив, в получаемом образовании ничто не исчезает, но все сохраняется. Образование — подлинно историческое понятие, и именно об этом историческом харак- , тере «сохранения» следует вести речь для того, чтобы понять суть гуманитарных наук. Так уже первый взгляд на историю слова «образование» вводит нас в круг исторических понятий, размещенных Гегелем вначале в сфере «первой философии». На практике Гегель тончайшим образом разработал понятие о том, что же такое образование. Мы следуем здесь за ним 15. Он увидел также, что для философии «условия ее существования кроются в образовании», а мы добавим к этому, что это справедливо и в отношении гуманитарных наук в целом. Ибо бытие духа в существенной степени связано с идеей образования. Человек отличается тем, что он разрывает с непос- ·* редственным и природным; этого требует от него духовная, разумная сторона его существа. «Взятый с этой стороны, он — не бывает от природы тем, чем он должен быть», и поэтому он нуждается в образовании. То, что Гегель назвал формальной сущностью образования, основано на его всеобщем. Исходя из понятия подъема ко всеобщему Гегель смог единообразно постичь то, что в его время понималось под образованием. Подъем ко всеобщности не ограничивается теоретическим образованием и вообще не подразумевает только лишь теоретический аспект в противоположность практическому, но охватывает сущностное 53 определение человеческой разумности в целом. Общая сущность человеческого образования состоит в том, что человек делает себя во всех отношениях духовным существом. Тот, кто предается частностям, необразован, например тот, кто не обуздывает свой слепой, несоразмерный и безотносительный гнев. Гегель показывает, что у такого человека изначально отсутствует способность к абстрагированию: он не может отвлечься от самого себя и взглянуть на то общее, которым соразмерно и относительно определяется его особенное. Образование как подъем к всеобщему является тем самым задачей человека. Она требует пожертвовать общему особенным. Негативно жертвование особенностями обозначает обуздание влечений и тем самым свободу от их предметов и свободу для своей предметности. Здесь дедукции феноменологической диалектики дополняют то, что было введено в «Пропедевтике». В «Феноменологии духа» Гегель развивает генезис подлинно свободного «в себе и для себя» самосознания и показывает, что сущность труда состоит в том, чтобы создать вещь, а не в том, чтобы ее потребить 1б. Работающее сознание вновь обретает себя как самостоятельное сознание в самостоятельном существовании, которое труд придает вещи. Труд — это обузданное влечение. Пока оно формирует предметность, то есть действует самозабвенно и обеспечивает общее, работающее сознание поднимается над непосредственностью своего бытия к всеобщности, или, как выразился Гегель, пока оно создает, формирует предмет, оно образует самое себя. При этом он подразумевает следующее: в той мере, в какой человек овладел «умением», достиг ловкости в работе, он получил и собственное самоощущение. То, в чем, как ему кажется, ему отказано в его самозабвенном служении, коль скоро он целиком подчиняется чужому разуму, становится его уделом, как только он обретает трудовое сознание. И в этом качестве он находит в себе свой собственный разум, и совершенно правильно утверждать о труде, что он образовывает человека. Самоощущения работающего сознания содержат все моменты того, что составляет практическое образование: дистанцию от непосредственности влечений, личных потребностей и приватных интересов, то есть требование всеобщности. В «Пропедевтике» Гегель, подчеркивая, что сущность практического образования состоит в стремлении к всеобщему, показывает, что оно предстает и в умеренности, которая ограничивает безмерность в удовлетворении по- 54 требностей и приложении сил к всеобщему. Оно же наличествует и в рассудительности, проявляемой по отношению к отдельным состояниям или занятиям, в учитыва-нии и того другого, что еще может быть необходимым. Но в любом призвании есть что-то от судьбы, от внешней необходимости, и любое призвание требует предаться выполнению задач, которые никак нельзя расценивать как преследование личных целей. Практическое образование сказывается в том, что профессиональное дело выполняют целиком и всесторонне. Но это включает и преодоление того чуждого, что есть в работе по отношению к человеку, то есть полное претворение человеком этого чуждого в свое собственное. Тем самым отдать себя общему в своем деле означает одновременно уметь себя ограничивать, то есть сделать свое призвание целиком своим делом. И тогда для человека оно уже не преграда. В этом гегелевском описании практического образования можно увидеть основополагающее определение исторического духа: примирение с самим собой, узнавание себя в инобытии. Это определение окончательно проясняется в идее теоретического образования, ибо теоретическая деятельность как таковая — это уже отчуждение, а именно стремление «заниматься не-непосредственным, чуждым, принадлежащим воспоминанию, памяти и мышлению». Итак, теоретическое образование выводит за пределы того, что человек непосредственно знает и постигает. Оно состоит в том, чтобы научиться придавать значение и другому и находить обобщенные точки зрения, чтобы «воспринимать объективное в его свободе» и без своекорыстных интересов 17. Именно поэтому всякое занятие образованием ведет через развитие теоретических интересов, и Гегель обосновывает особую пригодность для образования изучения мира и языка древних. Это обусловлено тем, что такой мир достаточно далек нам и чужд, чтобы могло оказать свое положительное воздействие то необходимое расстояние, которое его от нас отделяет, однако он «одновременно содержит все исходные моменты и нити возвращения нас к самим себе, но в виде истинно всеобщей сущности духа» "8. В этих словах директора гимназии у Гегеля можно увидеть типичный предрассудок приверженца классицизма, полагающего, что именно у древних особенно легко найти всеобщую сущность духа. Но основная идея сохраняет свою справедливость: узнавать в чужом свое, осваиваться в нем — вот в чем основное движение духа, смысл которого — только в возвращении к себе самому из инобытия. В остальном все теоретическое образование, включая изучение иностранных языков и чуждых мироощущений,— простое продолжение процесса образования, заложенного гораздо раньше. Каждый отдельный индивид, поднимающийся от своей природной сущности в сферу духа, находит в языке, обычаях, общественном устройстве своего народа заданную субстанцию, которой он желает овладеть, как это бывает при обучении речи. Таким образом, этот отдельный индивид постоянно находится на путях образования, и его естественность постоянно снимается соразмерно с тем, что мир, в который он врастает, образуется человеческим языком и человеческими обычаями. Гегель подчеркивает: в этом своем мире народ обретает бытие. Он вырабатывает его в себе и из себя и таким же способом устанавливает, чем он является в себе. Тем самым ясно, что сущность образования составляет не отчуждение как таковое, а возвращение к себе, предпосылкой которого, однако, и служит отчуждение. При этом образование следует понимать не только как такой процесс, который обеспечивает исторический подъем духа в область всеобщего; одновременно это и стихия, в которой пребывает образованный человек. Что же это за стихия? Здесь и начинаются те вопросы, которые мы уже обращали к Гельмгольцу. Ответ Гегеля не может нас удовлетворить, так как для него образование совершается как движение от отчуждения и усвоения к полному овладению субстанцией, к отрыву от всех предметных сущностей, что достижимо только в абсолютном философском знании. Действительное образование, подобно стихии духа, отнюдь не связано с гегелевской философией абсолютного духа, так же как подлинное понимание историчности сознания мало связано с его философией мировой истории. Необходимо уяснить, что и для исторических наук о духе, которые отошли от Гегеля, идея совершенного образования остается необходимым идеалом, так как образование — это именно та стихия, в которой они движутся. И то, что более древнее словоупотребление называет «совершенным образованием» в области телесных феноменов,— это ведь не столько последняя фаза развития, сколько состояние зрелости, которое оставило позади всякое развитие и обеспечивает гармоническое движение всех членов. Именно в этом смысле гуманитарные науки предполагают, что научное сознание предстает уже образованным и как раз благодаря этому оно обладает подлинным тактом, которому нельзя ни научиться, ни подражать и который под- 56 держивает образование суждения в гуманитарных науках и их способ познания. То, что Гельмгольц описывает как рабочую специфику гуманитарных наук, в особенности то, что он называет художественным чувством и тактом, предполагает на самом деле стихию образования, внутри которой обеспечивается особо свободная подвижность духа. Так, Гельмгольц говорит о «готовности, с которой самый разнородный опыт должен внедряться в память историка или филолога» 19. Весьма поверхностно это можно описать с точки зрения того идеала «железного труда самоосознаваемого умозаключения», в свете которого мыслит себя естествоиспытатель. Понятия памяти в том смысле, в котором он его употребляет, недостаточно для объяснения составляющих этого труда. На самом деле этот такт или это чувство понимаются неправильно, когда под ними подразумевают привходящую душевную способность, обслуживаемую цепкой памятью и таким образом достигающую знаний, не поддающихся строгому контролю. То, что обеспечивает возможность такой функции такта, что помогает обрести его и им располагать,— это не простое психологическое устройство, благоприятное по отношению к гуманитарному знанию. Сущность самой памяти нельзя понять правильно, не усматривая в ней ничего, кроме общего задатка или способности. Сохранение в памяти, забывание и вспоминание заново принадлежат к историческим состояниям человека и сами образуют часть его истории и его образования. Если кто-то использует, свою память как простую способность — а всякие технические способы есть упражнение в таком употреблении,— он еще не относит ее к сфере наиболее ему присущего. Память следует образовывать, ибо она — не память вообще и для него. Что-то в памяти хранят, что-то другое — нет, что-то хотят удержать в памяти, а что-то — из нее изгнать. Пришло время освободить феномен памяти от психологического уравнивания со способностями и понять, что она представляет существенную черту конечно исторического бытия человека. Наряду со способностями хранить в памяти и вспоминать, связанными некоторым отношением, в то же отношение вступает неким способом, на который еще не было обращено должного внимания, и способность забывать, которая является не только выпадением и недостатком, но и — это прежде всего подчеркнул Ф.Ницше — условием жизни духа20. Только благодаря забыванию дух сохраняет возможность 57 . тотального обновления, способность на все смотреть свежим глазом, так что давно известное сплавляется с заново увиденным в многослойное единство. «Сохранение в памяти» столь же неоднозначно. Будучи памятью, (μνήμη), оно связано с воспоминанием (άνάμνησις) 21. Но то же самое справедливо и в отношении употребляемого Гельм-гольцем понятия «такт». Под тактом мы понимаем определенную восприимчивость и способность к восприятию ситуации и поведения внутри нее, для которой у нас нет знания, исходящего из общих принципов. В силу этого понятие такта невыразительно и невыразимо. Можно что-то тактично сказать. Но это всегда будет значить, что при этом что-то тактично обходят и не высказывают и что бестактно говорить о том, что можно обойти. Но «обойти» не означает отвернуться от чего-то; напротив, это что-то нужно иметь перед глазами, чтобы об него не споткнуться, а пройти мимо него. Тем самым такт помогает держать дистанцию, избегать уязвлений и столкновений, слишком близкого соприкосновения и травмирования интимной сферы личности. Но такт, о котором говорит Гельмгольц, не просто идентичен с этим чувственным и бытовым феноменом. Однако существенно общее здесь налицо, так как и действующий в гуманитарных науках такт не исчерпывается чувственным и неосознаваемым характером; скорее это способ познавания и способ бытия одновременно. Уяснить это помогает вышеприведенный анализ понятия образования. То, что Гельмгольц называет тактом, включает в себя образование и представляет собой как его эстетическую, так и историческую функцию. Нужно обладать чувством как для эстетического, так и для исторического или образовывать это чувство, чтобы быть в состоянии положиться на свой такт в гуманитарных трудах. А так как этот такт — не просто естественное устройство, мы по праву говорим об эстетическом или историческом сознании, а не о собственном чувстве, хотя, очевидно, такое сознание соотносится с непосредственностью чувства, то есть в отдельных случаях оно может наверняка производить расчленение и оценку, хотя и не в силах привести для этого оснований. Так, тот, кто обладает эстетическим чувством, умеет различать прекрасное и безобразное, хорошее или плохое качество, а тот, кто обладает историческим чувством, знает, что возможно и что невозможно для определенной эпохи, и обладает чувством инаковости прошлого по отношению к настоящему. Если все это зиждется на образовании, то это означает, С t Ό что оно не есть вопрос опыта или позиции, но вопрос прошедшего становления бытия. Этому не в силах помочь ни более точные наблюдения, ни более основательное изучение традиции, если не подготовлена восприимчивость к инаковости произведения искусства или прошлого, Именно с этим мы сталкивались, когда, следуя за Гегелем, подчеркивали такой общий отличительный признак обра-зования^ как его открытость всему иному, другим, более обобщенным точкам зрения. В образовании заложено общее чувство меры и дистанции по отношению к нему самому, и через него — подъем над собой к всеобщему. Рассматривать как бы на расстоянии себя самого и свои личные цели означает рассматривать их так, как это делают другие. Эта всеобщность — наверняка не общность понятий или разума. Исходя из общего, определяется особенное и ничто насильно не доказывается. Общие точки зрения, для которых открыт образованный человек, не становятся для него жестким масштабом, который всегда действен; скорее они свойственны ему только как возможные точки зрения других людей. В такой степени образованное сознание на практике действительно обладает скорее характером чувства, так как любое чувство, например зрение, представляется общим ровно настолько, насколько оно охватывает свою сферу, насколько широкое поле ему открывается и насколько оно способно производить различения внутри открывшегося ему. Образованное сознание превосходит любое из естественных чувств тем, что эти последние ограничены каждое определенной сферой, оно же обладает способностью действовать во всех направлениях; оно — общее чувство. Общее чувство — вот какова на деле формулировка сущности образования, в которой слышится отзвук широ--ких исторических связей. Осмысление понятия образования, лежащее в основе размышлений Гельмгольца, возвращает нас к далекой истории этого понятия. Проследим за этой связью, если мы хотим освободить проблему философского подхода к гуманитарным наукам от искусственной узости, сообщенной ей учением о методе XIX века. Современное понятие науки и подчиненное ему понятие метода для нас недостаточны. То, что делает гуманитарные науки науками, скорее можно постичь, исходя из традиционного понятия образования, чем из методических идей современной науки. Это — гуманистическая традиция, и к ней мы обратимся. В сопоставлении с притязаниями современной науки она получает новое значение. Очевидно, стоило бы специально проследить, как со 59 времени гуманизма нашла свою аудиторию критика «школьной» науки и как эта критика эволюционировала вслед за эволюциями своих противников. Прежде всего здесь возродились к жизни античные мотивы. Энтузиазм, с которым гуманисты прокламировали греческий язык и путь эрудиции, был чем-то большим, нежели просто страстью к антиквариату. Пробуждение к жизни классических языков принесло с собой новую оценку риторики. Она открыла фронт против «школы», то есть против схоластической науки, и служила идеалу человеческой мудрости, который был недостижим в рамках «школы»; такое противопоставление воистину стоит уже у истоков философии. Платоновская критика софистов, а еще более — его своеобразно амбивалентное отношение к Исократу поясняют заложенную здесь философскую проблему. В связи с новым осознанием метода в естествознании XVII века эта древняя проблема еще увеличивает свою критическую остроту. Перед лицом притязаний этой новой науки на исключительность все более настоятельно встает вопрос, не может ли единственный источник истины лежать в гуманистическом понятии образования. В самом деле, мы увидим, что гуманитарные науки XIX века, не сознавая этого, черпали свою единственную жизненную силу из сохраняющей жизнеспособность гуманистической мысли об образовании. При этом в основном само собой разумеется, что определяющими здесь выступают гуманистические штудии, а не математика, ибо что могло бы означать новое учение о методе XVII века для гуманитарных наук? Стоит лишь прочесть соответствующие главы «Логики Пор-Роя-ля», касающиеся законов разума в приложении к исторической истине, чтобы понять всю скудность того, что из этой"методической идеи могут почерпнуть гуманитарные науки 2. Все извлечения из нее сводятся к голой тривиальности, к чему-то вроде того, что оценка события во всей его истинности требует внимания к сопровождающим его обстоятельствам (circonstances). Янсенисты таким способом доказательства пытались дать методическое руководство для решения вопроса о том, в какой степени заслуживают доверия чудеса. Они стремились тем самым противопоставить неконтролируемой вере духа в чудо новый метод и полагали, что таким образом удастся легитимировать подлинные чувства библейского предания и церковной традиции. Новая наука на службе древней церкви — слишком очевидно, что эти отношения не обещали быть длительными, и можно себе представить, что должно 60 было случиться, когда сами предпосылки христианства стали проблематичными. Методический идеал естествознания в его применении к достоверности исторических свидетельств библейского предания должен был привести к совершенно иным, катастрофическим для христианства результатам. Путь от критики чуда в стиле янсенистов к исторической библейской критике не так далек, Спиноза — хороший тому пример. В дальнейшем мы покажем, что последовательное применение этой методики как единственного критерия определения истины в гуманитарных науках вообще равнозначно ее самоуничтожению. &) Sensus communis (здравый смысл) При таком положении вещей нетрудно, опираясь на гуманистическую традицию, задаться вопросом о том, какому пути познания могут научиться у такой методики гуманитарные науки. Ценный исходный пункт для этого рассуждения представляет труд Вико «О смысле наук нашего^ времени» 23. Предпринятая Вико защита гуманизма, как показывает уже само заглавие, опосредована иезуитской педагогикой и в той же степени, что против Декарта, направлена и против янсенизма. Этот педагогический манифест Вико, как и его проект «новой науки», основывается на старых истинах. Он апеллирует к здравому смыслу, к общественному чувству и к гуманистическому идеалу элоквенции, то есть к тем моментам, которые были заложены уже в античном понятии мудрости. «Благоре-чие» (ευ λέγειν) в связи с этим становится внутренне двузначной формулой, а отнюдь не одним лишь риторическим идеалом. Оно подразумевает также говорение правильного, то есть истинного, а не только искусство речи, умение что-нибудь хорошо сказать. Поэтому в древности этот.идеал, как известно, прокламировался и учителями философии, и учителями риторики, а ведь риторика с давних пор враждовала с философией и претендовала на то, чтобы в противоположность праздным спекуляциям «софистов» сообщать подлинную жизненную мудрость. Вико, который сам был преподавателем риторики, находится при этом, следовательно, в русле идущей от античности гуманистической традиции. Очевидно, эта традиция, и в особенности позитивная двузначность риторического идеала, узаконенного не только Платоном, но и антириторическим методологизмом Нового времени, имеет значение и для самоосознания гуманитарных наук. В этой связи у Вико звучит уже многое 61 из того, что нас занимает. Его апелляция к здравому смыслу таит в себе, однако, еще один момент античной традиции, кроме риторического: противопоставление «школьного» ученого и мудреца, на которое Вико опирается,— противопоставление, имевшее своим первообразом кинического Сократа и своей вещественной основой — противопоставление «софии» и «фронесис», впервые разработанное Аристотелем и развитое перипатетиками до уровня критики теоретического жизненного идеала 24, а в эллинистическую эпоху ставшее одной из определяющих образа мудреца, в особенности после того, как греческий идеал образования сплавился с самосознанием руководящего политического слоя Рима. Римское правоведение позднейшего времени также, как известно, развивается на фоне правового искусства и правовой практики, которые соприкасаются скорее с практическим идеалом «фронесис», нежели с теоретическим идеалом «философии» 25. Со времен возрождения античной философии и риторики образ Сократа окончательно превратился в антитезис науки, о чем свидетельствует фигура дилетанта, занявшая принципиально новую позицию между ученым и мудрецом 26. Риторическая традиция гуманизма также умело апеллировала к Сократу и к критике скептиками догматиков. Так, Вико критикует стоиков за то, что они верят в разум как в régula veri (правило истины), и, на"против, восхваляет древних академиков, утверждавших только знание о незнании, а затем и академиков Нового времени за то, что они сильны в искусстве аргументации, которое относится к искусству речи. Обращение Вико к здравому смыслу обретает, однако, в русле этой гуманистической традиции особую окраску. В области науки тоже существует столкновение старого и нового, и то, что имеет в виду Вико,— это уже не противопоставление «школе», а особое противопоставление современной ему науке. Критическая наука Нового времени имеет свои преимущества, которых он не оспаривает, но указывает их границы. Мудрость древних, их стремление к рассудительности (prudentia) и красноречию (eloquentia), по мнению Вико, не утратили значения и перед лицом этой новой науки и ее математических методов. Применительно" к проблемам воспитания они оказываются не чем иным, как образованием здравого смысла, питаемым не истинным, а вероятным. Здесь для нас важно следующее: здравый смысл в этой связи явно означает не только ту общую способность, которая есть у всякого человека, но одновременно и чувство, порождающее общность. Вико 62 считает, что направленность человеческой воле придает не абстрактная общность разума, а конкретное общее, общность группы, народа, нации или всего человеческого рода. Развитие этого общего чувства тем самым получает решающее значение для жизни. На этом общем чувстве истины и права, которое в основе своей не является знанием, но позволяет находить путеводный свет, Вико основывает значение красноречия и его право на самостоятельность. Ведь воспитание не может идти путем критического исследования. Юношество нуждается в образах для развития фантазии и памяти. Но именно этого и не предоставляет изучение наук в духе новейшей критики. Так, для Вико старая топика отодвигает в сторону картезианскую критику. Топика — это искусство находить аргументы, она служит для развития чувства убежденности, которое функционирует инстинктивно и мгновенно (ex tempore), и именно поэтому его нельзя заменить наукой. Эти определения Вико выявляют свою апологетичность. Они косвенно признают новое, истинностное понятие науки, но при этом исключительно защищают право на существование вероятного. В этом Вико, как мы видели, следует древней риторической традиции, восходящей еще к Платону. Но то, что Вико подразумевает, выходит далеко за пределы риторического убеждения. По сути дела, здесь, как мы уже говорили, действует аристотелевское противопоставление практического и теоретического знания, которое нельзя редуцировать до противопоставления истинного и вероятного. Практическое знание, «фронесис» — это другой тип знания 27. Это означает в итоге, что оно направлено на конкретную ситуацию. Следовательно, оно требует учета «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Именно это подчеркнуто выделяется у Вико; правда, он обращает внимание лишь на то, что это знание отходит от рационального понятия знания. Но на самом деле это не идеал квиетизма. Аристотелевское противопоставление имеет в виду еще и нечто иное, нежели только противоположность знания, основанного на общих принципах, и знания конкретного, нечто иное, нежели только способность подведения единичного под общее, которую мы называем «способностью суждения». В нем скорее действует позитивный этический мотив, входящий в учение римских стоиков о здравом смысле. Осознание и чувственное преодоление конкретной ситуации требуют такого подведения под общее, то есть цели, которую преследуют, чтобы достичь того, что правильно. Следо- 63 вательно, такое подчинение уже имеет предпосылкой направленность воли, .а это означает чувственное бытие (εξιζ). Отсюда «фронесис», по Аристотелю,—-«духовная добродетель». Он видит в ней не просто способность, но определенность чувственного бытия, которой не может быть без всей совокупности «этических добродетелей», и наоборот, они не могут существовать без нее. Хотя проявление этой добродетели обусловливает различение подходящего и неподходящего, это не просто практический ум и общая находчивость. Различение ею подходящего и неподходящего всегда включает в себя и различение уместного и неуместного и подразумевает некоторую нравственную позицию, которую в свою очередь развивает. Вот тот мотив, который Аристотель развивал против платоновской «идеи блага» и на который, по сути, указывает апелляция Вико к здравому смыслу. В схоластике, например, для Фомы Аквинского здравый смысл — в развитие идей трактата «О душе» 28— это общий корень внешних чувств, а также комбинирующей их способности судить о данном, которая присуща всем людям 29. Для Вико, напротив, здравый смысл — это чувство правильности и общего блага, которое живет во всех людях, но еще в большей степени это чувство, получаемое благодаря общности жизни, благодаря ее укладу и целям. В этом понятии слышится отзвук естественного права, как в κοι,ναί εννοιαι (общих идеях) Стой. Но здравый смысл в таком значении — это не греческое понятие и вовсе не подразумевает χοινή δΰναμις (общую способность), о которой говорит Аристотель в сочинении «О душе», когда он пытается провести параллель между учением о специфических чувствах (αΐσΦησις ίσια) и феноменологическим состоянием, которое показывает любое восприятие как различение общего и как суждение о нем. Вико скорее опирается на древнеримское понятие sensus communie в том виде, в каком оно предстает у римских классиков, которые в противоположность греческому образованию придерживались ценностей и смысла своих собственных традиций государственной и общественной жизни. Следовательно, уже в римском понятии здравого смысла можно услышать критическую ноту, направленную против теоретических спекуляций философов, и Вико подхватывает ее в своем противостоянии современной ему науке (critica). Стоит только обосновать историко-филологические штудии и специфику работы в области гуманитарных наук на этом понятии здравого смысла, как сразу возни- 64 кает нечто, разъясняющее проблему. Ибо предмет этих наук, моральное и историческое существование человека, обрисовывающееся в его трудах и деяниях, сам по себе решающим образом определяется здравым смыслом. Так, вывод из общего и доказательство по основаниям не могут быть достаточными, потому что решающее значение имеют обстоятельства. Но это лишь негативная формулировка. Существует собственно позитивное познание, опосредуемое здравым смыслом. Тип исторического познания никоим образом не исчерпывается допущением «веры в свидетельство со стороны» (Тетенс 30) на место «самоосознанного умозаключения» (Гельмгольц). Дело также и вовсе не в том, чтобы приписать такому знанию лишь ограниченную истинностную значимость. Д" Аламбер справедливо писал: «Вероятность главным образом относится к области исторических фактов и вообще ко всем прошедшим, настоящим и будущим событиям, которые мы приписываем некоей случайности, потому что не можем выяснить их причин. Та часть этого вида сознания, которая относится к настоящему и прошлому, хотя бы она и была основана на простом свидетельстве, зачастую производит в нас убеждение столь же сильное, как то, которое порождают аксиомы» 31. К тому же история — это совершенно иной источник истины, нежели теоретический разум. Уже Цицерон имел это в виду, когда называл ее жизнью памяти (vita mémo-пае) 32. Ее собственное право основано на том, что нельзя управлять человеческими страстями, пользуясь общими предписаниями разума. Для этого скорее приспособлены убедительные примеры, которые может предоставлять только история. Поэтому Бэкон называет историю, дающую такие примеры, другим путем философствующих (alia ratio philosophandi) 33. Это также вполне негативная формулировка. Но мы увидим, что во всех этих эволюциях понятия прослеживается увиденный Аристотелем способ бытия чувственного знания. Воспоминание об этом оказывается важным для надлежащего самоосознания гуманитарных наук. Возврат Вико к римскому понятию здравого смысла и его защита гуманистической риторики против современной ему науки представляют для нас особый интерес, так как здесь мы подходим к моменту истинности гуманитарного познания, который уже недоступен для осознания наукой XIX века. Вико жил в нетронутой традиции риторико-гуманистического образования, и ему оставалось лишь обновить всю значимость ее неустаревших 65 прав. В конце концов, издавна существовало знание о том, что возможности рационального доказательства и учения не полностью исчерпывают сферу познания. В связи с этим апелляция Вико к здравому смыслу, как мы видели, предстает в широком контексте, простирающемся вплоть до античности, а его непрекращающееся до наших дней влияние и составляет тему нашего исследования 34. Нам же, напротив, приходится с трудом пролагать себе обратный путь к этой традиции; обратимся сначала к тем трудностям, которые встречает приложение современного понятия метода к области гуманитарных наук. С этой целью займемся исследованием того, каким образом эта традиция пришла в упадок и как вместе с тем проблема истинности гуманитарного познания подпала под мерки чуждого ей по своей сути методического мышления современной науки. В этой эволюции, существенно обусловленной немецкой «исторической школой», Вико и непрерывающаяся риторическая традиция Италии вообще не играли непосредственно решающей роли. Влияние Вико на XVIII век едва заметно. Но в своем стремлении обратиться к понятию здравого смысла он не был одинок. Существенно важную параллель ему представлял Шефтсбери, влияние которого в XVIII веке было огромным. Под именем здравого смысла Шефтсбери воздает почести общественному значению остроумия и юмора и подчеркнуто обращается к римским классикам и их гуманистическим интерпретаторам 35. Разумеется, для нас понятие здравого смысла, как мы замечали, имеет и оттенок стоицизма и естественного права. Однако невозможно оспорить правильность гуманистической интерпретации, опирающейся на римских классиков, которой следует и Шефтсбсри. Согласно его мнению, гуманисты трактовали здравый смысл как понимание общего блага, но к тому же еще и как приверженность общине или обществу, как естественные чувства, гуманность, любезность. Все это они связывали с одним словом у Марка Аврелия — κοινονοημοσΰνη 36, обозначающим единство общего разума. Здесь мы видим в высшей степени редкое искусственное слово, и это основательным образом свидетельствует" о том, что понятие здравого смысла вовсе не происходит из греческой философии, что понятийный отзвук стоической философии слышится в нем всего лишь как обертон. Гуманист Салмазий описывает содержание этого слова как «умеренный, общепринятый и надлежащий человеческий разум, который всячески печется об обще- 66 ственных делах, а не обращает все к своей пользе, и также имеет уважение от тех, с кем общается; о себе полагает скромно и мягко». Следовательно, это не столько механизм естественного права, приданный всем людям, сколько социальная добродетель, причем более добродетель сердца, нежели ума; это и имеет в виду Шефтсбери. И когда он с этих позиций анализирует остроумие и юмор, то и в этом он следует древнеримским понятиям, которые включали в humanitas жизненную утонченность, поведение человека, который понимает толк в удовольствиях и забавах и "предается им, потому что уверен в глубокой солидарности партнера. (Шефтсбери ограничивает остроумие и юмор исключительно светским дружеским общением.) Если здравый смысл предстает здесь почти как общественная обиходная добродетель, то на самом деле это должно имплицировать некоторый моральный и даже метафизический базис. Шефтсбери имеет в виду духовную и социальную добродетель взаимопонимания (sympathy), на которой он, как известно, основывает не только мораль, но и всю эстетическую метафизику. Его последователи, прежде всего Хатчесон 37 и Юм, разработали это положение в учении о здравом смысле, которое позднее было высмеяно в кантианской этике. Подлинно центральную систематическую функцию получило понятие здравого смысла в философии шотландской школы, которая полемически направлена против метафизики, а также и против ее разбавленного скептицизмом варианта и строит свою новую систему на основе изначального и естественного суждения о здравом смысле (Томас Рид) 38 . Несомненно, здесь проявилась аристотелевско-скептическая понятийная традиция здравого смысла. Исследование чувств и их познавательных достижений почерпнуто из этой традиции и в конечном счете призвано служить коррекции преувеличений в философских спекуляциях. Но одновременно при этом понятие здравого смысла концентрируется на обществе: «Он служит тому, чтобы направлять нас в общественных делах или в общественной жизни, когда наши способности к рассуждению покидают нас в темноте». Философия здорового человеческого разума (good sensé) y представителей шотландской школы выступает не только как целительное средство против «лунатизма» метафизики, она еще и содержит основы моральной философии, воистину удовлетворяющей жизненные потребности общества.