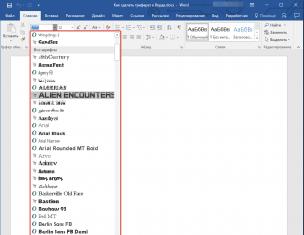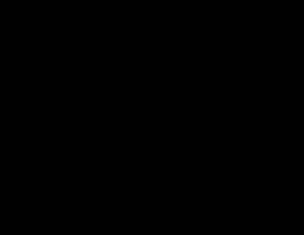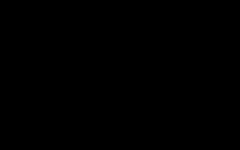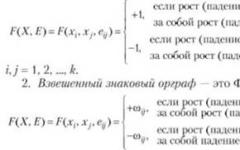Я. В. Смеляков родился 26 декабря 1912 (8 января 1913 года) в Луцке (ныне Украина) в семье железнодорожного рабочего. Детство провёл в деревне, где окончил начальную школу. Затем он учился в Москве, в школе-семилетке.
Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу (1931). Занимался в литературных кружках при газете «Комсомольская правда» и журнале «Огонёк». Работал в типографии. Член СП СССР с 1934.
В 1934-1937 годах был репрессирован. Два близких друга Я. В. Смелякова - Павел Васильев и Борис Корнилов были расстреляны в годы Большого террора.
С 1937 ответственный секретарь газеты «Дзержинец» трудкоммуны имени Дзержинского (Люберцы). С 1939 ответственный инструктор секции прозы СП СССР.
Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, находился в финском плену до 1944. Возвратившись из плена, Смеляков опять попал в лагерь, где его несколько лет «фильтровали». Вместе с ним в лагере находился брат Александра Твардовского, Иван. После лагеря Смелякову въезд в Москву был запрещен. Работал в многотиражке на подмосковной угольной шахте. В Москву ездил украдкой, ни в коем случае не ночевал. Благодаря , замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь вернуться к писательской деятельности. В 1948 году вышла книга «Кремлевские ели».
В 1951 по доносу двух поэтов вновь арестован и отправлен в заполярную Инту.
Просидел Смеляков до 1955 года, возвратившись домой по амнистии, еще не реабилитированный.
Член Правления СП СССР с 1967, Правления СП РСФСР с 1970. Председатель поэтической секции СП СССР. Принимал участие в травле Солженицына.
Умер Смеляков еще нестарым человеком, месяц не дожив до шестидесятилетия. Не прибавила здоровья Ярославу Васильевичу ни новая жена (первая жена Дуся заочно развелась с ним, выйдя замуж за жокея московского ипподрома Бондаревского), ни новая квартира на Ломоносовском проспекте, ни бывшая фадеевская дача в Переделкине. А наиболее пронзительные строки увидели свет уже после его смерти, в перестройку. И среди них выделяется одно — о его первом следователе.
Рано начал писать стихи. Учась в ФЗУ (будучи «фабзайцем»), публиковал стихи в цеховой стенгазете. Писал также обозрения для агитбригады. Дебютировал в печати в 1931 году. Первый сборник стихов «Работа и любовь» (1932) сам набирал в типографии как профессиональный наборщик. Как и в следующем сборнике «Стихи», Смеляков воспевал новый быт, ударный труд.
В стихах использовал разговорные ритмы и интонации, прибегал к своеобразному сочетанию лирики и юмора. В сборниках послевоенных лет ( , 1948; «Избранные стихи», 1957) и поэме «Строгая любовь» (1956), посвященной молодёжи 1920-х годов, обнаруживается тяготение к простоте и ясности стиха, монументальности изображения и социально-историческому осмыслению жизни. Поэма, частично написанная ещё в лагере, получила широкое признание.
В произведениях позднего периода эти тенденции получили наиболее полное развитие. Одной из главных тем стала тема преемственности поколений, комсомольских традиций: сборники «Разговор о главном» (1959), «День России» (1967); «Товарищ Комсомол» (1968), «Декабрь» (1970), поэма о комсомоле «Молодые люди» (1968) и другие. Посмертно изданы «Мое поколение» (1973) и «Служба времени» (1975).

фото с http://poezosfera.ru
"Как-то раз мы с Юликом
зашли в кабинку к нарядчику Юрке Сабурову. Юлий взял стопку карточек, по которым зеков выкликали на разводе -- они маленькие, величиной с визитку.
По привычке преферансиста Юлик стал тасовать их. Потасует, подрежет и посмотрит, что выпало. На второй или третий раз он прочитал:
"Смеляков Ярослав Васильевич, 1913 г.р., ст.58.1б, 10 ч.П, 25 лет,вторая судимость." Поэта Смелякова мы знали по наслышке. Из его стихов
помнили только "Любку Фейгельман", которую в детстве непочтительно распевали на мотив "Мурки":
До свиданья, Любка, до свиданья Любка!
Слышишь? До свиданья, Любка Фейгельман!
Слышали, что он до войны сидел. Неужели тот? Вторая судимость, имя и фамилия звучные как псевдоним... Решили выяснить.
Юрка сказал
, что Смеляков ходит с бригадой на строительство дороги, и мы после работы пришли к нему в барак, Объяснили, что мы москвичи, студенты,
здесь -- старожилы, и спросили, не можем ли быть чем-нибудь полезны. -- Да нет, ничего не надо, -- буркнул он. Был неулыбчив, даже угрюм.
Мы поняли, что не понравились ему и распрощались: насильно мил не будешь. Но дня через два к нам прибежал паренек из дорожной бригады, сказал,
что Смеляков интересуется, чего мы не появляемся. -- Вы ему очень понравились, -- объяснил посыльный. Мы сразу собрались,
пошли возобновлять знакомство.
Это был как раз тот неприятный период
, когда Бородулин запретил хождение по зоне. Поэтому мы со Смеляковым зашли за барак, сели на лавочку
возле уборной, и он стал читать нам стихи. Стрелок с вышки видел нас, но пока мы не лезли на запретную зону, происходящее мало его трогало.
Ярослав Васильевич -- он до конца жизни оставался для нас Ярославом Васильевичем, несмотря на очень нежные отношения -- знал, что читать:
"Кладбище паровозов", "Хорошая девочка Лида", "Мое поколение", непечатавшееся тогда "Приснилось мне, что я чугунным стал" и "Если я
заболею". (Это прекрасное стихотворение впоследствии так изуродовали, переделав в песню! Говорят, Визбор. Жаль, если он).
Стихи нам нравились, нравилась и смеляковская манера читать -- хмурое чеканное бормотанье. Расставаться не хотелось, и мы попробовали перетащить
его в нашу колонну. Не так давно я прочитал -- по-моему, в "Литературке" --статью кого-то из московских поэтов. Воздав должное таланту и гражданскому
мужеству Смелякова, он сообщал читателям, что в лагере Смелякову предложили легкую работу, в хлеборезке, но он гордо отказался и пошел рубать уголек... Было не совсем так.
Про нас и самих, в стихотворении посвященном Дунскому и Фриду, Володя Высоцкий сотворил микролегенду:
Две пятилетки северных широт,
Где не вводились в практику зачеты --
Ни день за два, ни пятилетка в год,
А десять лет физической работы.
Лестно, но не соответствует действительности: из десяти лет срока мы с Юлием на "физических работах" провели не так уж много времени.
И Ярославу никто не предлагал работу в хлеборезке, а в шахту на Инте он не спускался ни разу. Дело обстояло так: я пошел к начальнику колонны
Рябчевскому, который к нам с Юликом относился уважительно. Он называл нас "вертфоллер юден" -- полезные евреи. Такая категория существовала в
гитлеровском рейхе -- ученые, конструкторы, особо ценные специалисты. -- Костя, -- сказал я. -- Скоро весна, начнутся ремонтные работы, тебе
наверняка нужны гвозди. Я тебе принесу четыре килограмма, а ты переведи Смелякова на шахту 13/14.
Сделка состоялась
. Гвозди я выписал через вольного начальника участка, и на следующий же день Ярослав Васильевич вышел на работу вместе с нами.
Уже на воле, в Москве, пьяный Смеляков растроганно гудел, встречаясь с нами:
-- Они мне жизнь спасли!
Это тоже неправда. Во первых, его жизни впрямую ничто не угрожало -- лагерь все-таки был уже не тот. А во вторых, главную роль в его
трудоустройстве сыграл старший нормировщик з/к Михайлов.
Полковником его звал и Ярослав Васильевич
. Они понравились друг другу сразу. Для начала Свет определил Смелякова на заготовку пыжей. Pабота не бей
лежачего: бери лопатой смесь глины с конским навозом и кидай в раструб пыжеделки. Это хитрое приспособление, за которое заключенные рационализаторы
получили даже премию, при ближайшем рассмотрении оказывалось чем-то вроде большой мясорубки. Электромоторчик крутил червячный вал и через две дырочки,
как фарш выползали наружу глиняные колбаски -- пыжи для взрывников.
Со строительством дороги
новые обязанности Ярослава Васильевича не сравнить, но и они показалась Полковнику слишком тяжелыми для такого
человека, как Смеляков. Он перевел его в бойлерную. Теперь, приходя на работу, Ярослав должен был нажать на пусковую кнопку и сидеть, поглядывая
время от времени на стрелку манометра -- чтоб не залезла за красную черту. Уходя, надлежало выключить насос.
Совестливый Смеляков по нескольку раз в день принимался подметать и без того чистый цементный пол. Раздобыв краски у художника Саулова, покрасил
коробку пускателя в голубой цвет, а саму кнопку в красный. И все равно оставалось много свободного времени. Мы с Юликом -- а иногда и со Светом --
забегали к нему поболтать. К этому времени мы уже знали его невеселую историю.
Сам он был нелюбителем высокого штиля
и никогда не назвал бы свою судьбу трагедией. Я тоже не люблю пафоса -- но как по-другому сказать о том,
что со Смеляковым вытворяла искренне любимая им советская власть?
В 34-м году молодой рабочий поэт, обласканный самим Бабелем, заметил по поводу убийства Кирова:
-- Теперь пойдут аресты и, наверно, пострадает много невинных людей.
Этого оказалось достаточно. Ярославу дали три года. И немедленно распустили слух, будто посажен он за то, что стрелял в портрет Кирова. Зачем
стрелял, из чего стрелял -- неясно. Ясно, что мерзавец. Этим приемом чекисты пользовались часто. Одна очень знаменитая актриса
-- не помню, какая именно, но в ранге Тамары Макаровой -- оказалась на кремлевском банкете рядом с Берией и отважилась спросить: что с Каплером?
-- Почему вас интересует этот антисоветчик и педераст? -- ответил Лаврентий Павлович.
Это Каплер-то педераст? -- удивилась про себя актриса. У нее, видимо, были основания удивляться. Но вопросов больше не задавала: не может же
порядочную женщину волновать судьба педераста!.. Но это так, к слову.
А Смеляков вышел на свободу в 37-м
, не самом хорошем, году. Вернулся в Москву, продолжал писать, но тут началась война. Другие писатели пошли в
армию капитанами и майорами -- кто в корреспонденты, кто в политруки. А Ярослава с его подпорченной биографией определили в стройбат. В первые же
месяцы их часть угодила в окружение. Ярослав Васильевич рассказывал, как они метались в поисках своих, и никто не мог указать им направление. Толкнулись
в штаб какой-то чужой части. Дверь открыл полуодетый майор-особист, пахнувший, по словам Смелякова, коньяком и спермой. Обматерил и вернулся к
своей бабе...
Весь стройбат попал в плен к финнам. Там Ярослав вел себя безупречно. Был, выражаясь языком официальных бумаг, "организатором групп
сопротивления". Поэтому во втором его лагере (втором -- это если не считать финского), в так называемом "фильтрационном", Смелякова продержали недолго
-- грехов за ним не водилось.
Было это в Подмосковном угольном бассейне
. Там он познакомился с прелестной женщиной, работавшей в конторе; освободившись, женился на ней и
увез в Москву вместе с уже довольно большой дочкой.
Опять писал стихи, даже издал один или два сборника. И однажды, выпивая с Дусей и каким-то приятелем, сказал:
-- Странное дело! О Ленине я могу писать стихи, а о Сталине не получается. Я его уважаю, конечно, но не люблю.
Когда приятель ушел -- я ведь знал его фамилию, знал, но к сожалению забыл -- Дуся заплакала.
-- Если б ты видел, какие у него сделались глаза, когда ты это сказал!
-- А что я такого сказал? Сказал -- уважаю.
Но оказалось, что Сталину этого мало. Приятель вполне оправдал Дусины ожидания, и Смелякова посадили в третий раз, не считая финского раза.
Припомнили плен и припаяли кроме антисоветской агитации еще и измену Родине.
Я уже говорил
: недолюбливая Сталина, Ярослав Смеляков всегда был и в лагере оставался советским поэтом -- может быть, самым искренне советским из
из всех. Послушав наши лагерные стишата, он сдержанно похвалил отдельные места в "Обозрении" и во "Враге народа", но с большим неудовольствием
отнесся к "Истории государства Российского". Зло и несправедливо, -- сказал он. Из написанного нами ему понравился только рассказ "Лучший из них".
Смеляков был вторым человеком, который сказал про нас: писатели. Первым был Каплер. И так случилось, что много лет спустя они оба написали нам
рекомендации в Союз Писателей.хх)
В стихах самого Смелякова, написанных в тюрьме и в лагере -- их не много -- злобы не было. Только печаль и недоумение; особенно в одном из них
-- не знаю, печаталось ли оно где-нибудь, кроме моих воспоминаний. Приведу его, как запомнил:
В детские годы, в преддверии грозной судьбы,
сидя за школьною партой, веснущат и мал,
я в букваре нашу заповедь "МЫ НЕ РАБЫ"
с детскою верой и гордостью детской читал.
Дальше вела меня века крутая стезя,
марш пятилеток над вьюжной страною гремел.
"Мы не рабы и не будем рабами, друзья!" --
в клубе фабзавуча я с комсомольцами пел.
...............(с т р о ч к у не п о м ню)...............
годы я тратил и жизь был потратить готов,
чтобы не только у нас, а на всей бы земле
не было белых и не было черных рабов...
Смело шагай по расшатанной лестнице лет!
К царству грядущего братства иди напролом!
Как же случилось, что я, запевала-поэт,
стал -- погляди на меня -- бессловесным рабом?
Не на плантациях дальних, а в отчем краю,
не в чужеземных пределах, а в нашей стране
в грязной одежде раба на разводе стою,
номер раба у меня на согбенной спине.
Я на работу иду, как убийца на суд --
мерзлую землю долбить и грузить доломит...
И все. Дальше не написалось. Скорей всего, поэту страшно было найти ответ на свой же вопрос: "Как получилось?.." Это было бы крушением его веры,
сломало бы соломинку, за которую Смеляков цеплялся до последних дней своей жизни. Даже в Москве -- вернее, в своем добровольном переделкинском
заточении -- он выспрашивал у нас с Юликом: ну, а как сейчас на собраниях? Спорят молодые? Или как раньше?..
Ничего утешительного мы ему сказать не могли.
Рабом Ярослав Васильевич в лагере не стал
, рабского в нем не было ни грамма. Однажды мы втроем грелись на солнышке возле барака. Мимо прошел
старший нарядчик, бросил на ходу:
-- Здорово.
-- Здорово, здорово, еб твою мать! -- с неожиданной яростью сказал Смеляков. Мы его попрекнули: ну зачем же так? Ничего плохого этот мужик ему не делал -- пока.
-- Валерик, у него же глаза предателя. Вы что, не видите?!.
Между прочим его стихотворение -- вернее, то место, где он, веснущат и мал, читает
букварь -- подбило нас с Юликом на дополнительные две строчки для нашего, также недописанного, "Врага народа":
"Мы не рабы". Да, мы з/к з/к
"Рабы не мы". Немы, немы -- пока!
Жена Дуся прислала Ярославу письмо: у дочки скоро день рождения, как хотелось бы, чтоб ты был с нами!..
Ярослав Васильевич написал ответ -- но не послал, лагерный цензор не пропустил бы.
Твое письмо пришло без опозданья.
И тотчас -- не во сне, а наяву --
как младший лейтенант на спецзаданье,
я бросил все и прилетел в Москву.
А за столом, как было в даты эти
у нас давным-давно заведено,
уже шумели женщины и дети,
искрился чай, и булькало вино.
Уже шелка слегка примяли дамы,
не соблюдали девочки манер
и свой бокал по-строевому прямо
устал держать заезжий офицер.
Дым папирос под люстрою клубился,
сияли счастьем личики невест --
вот тут-то я как раз и появился,
как некий ангел отдаленных мест.
В тюремной шапке, в лагерном бушлате,
полученном в интинской стороне --
без пуговиц, но с черною печатью,
поставленной чекистом на спине...
Твоих гостей моя тоска смутила.
Смолк разговор, угас застольный пыл...
Но боже мой, ведь ты сама просила,
чтоб в этот день я вместе с вами был!
Печать, поставленная чекистом на спине -- это номер Л-222. Кстати, Смеляков умудрился где-то его потерять, и я собственноручно нарисовал
чернилами на белом лоскутке три красивые как лебеди двойки. Поэтому и запомнил.
После смерти Ярослава его вторая жена, Татьяна Стрешнева, опубликовала это стихотворение в одном из московских журналов, забыв указать, кому оно
адресовано. Получилось, что ей.
Мне неприятно говорить об этом, потому что Таня своей заботой очень облегчила последние годы жизни Ярослава Васильевича, была образцовой женой,
умела приспособиться к его трудному характеру. "Платон мне друг, но..."
О забавных обстоятельствах их знакомства
я еще успею рассказать. А сейчас поспешу оговориться, что о трудном характере Смелякова я упомянул,
полагаясь на чужие свидетельства. О нем говорили -- грубый, невыносимый... Но в нашей с Дунским памяти он остался тонким, тактичным, и даже больше того
-- нежным человеком.
Как-то раз посреди барака Ярослав подошел к Юлику, обхватил руками, положил голову ему на плечо и сказал:
-- Юлик, давайте спать стоя, как лошади в ночном...
Много лет спустя мы вложили эту реплику в уста одному из самых любимых своих героев -- старику-ветеринару.
В лагере Ярослав Васильевич по техническим причинам не пил, но не без удовольствия вспоминал эпизоды из своего не очень трезвого прошлого.
Рассказал, как однажды, получив крупный гонорар, он решил тысячи три утаить от жены Дуси -- на пропой. Поделился этой идеей с товарищем; они вдвоем
возвращались из издательства на такси и уже успели поддать. Товарищ одобрил. Назавтра, протрезвев, Смеляков стал пересчитывать получку и обнаружил,
что нехватает как раз трех тысяч. Позвонил своему вчерашнему спутнику. Тот сразу вспомнил:
-- Я тебе сказал, что всегда зажимаю тыщенку-другую. А чтоб моя баба не нашла, прячу в щель между сиденьем и спинкой дивана.
Тогда вспомнил и Ярослав: он тоже спрятал заначку между спинкой и сиденьем. В такси...
Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья,
свинчены голоса.
Словно распад сознанья -
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.
Градусники разбиты:
цифирки да стекло -
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.
Мертвым не нужно зренья -
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.
В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.
Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.
Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.
Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтеры,
села и города.
Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щеки твои бледны.
Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветет любовь.
Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.
В ту весну вода держалась недолго и ушла, унося с собой мусор и нечистоты. Дело в том, что уборной у нас не было -- по большой нужде бегали
на край овражка. А роль ассенизатора выполняли вешние воды. Построить уборную нам все-таки пришлось: к Смелякову на свидание
собиралась приехать Дуся. Заранее известно было, что остановится она у нас. Вот ради нее мы и затеяли строительство. Строили впопыхах, даже доски не
обрезали -- так из стандартных шестиметровых и соорудили будочку. Ребята смеялись: вы б ее хоть двухэтажной сделали!..
Перед Дусиным приездом мы побывали у Ярослава Васильевича в бойлерной. Пропуск на шахту нам устроил скульптор Коля Саулов: он как раз заканчивал
своего "Флагмана коммунизма" и наврал начальству, что Дунский и Фрид большие знатоки изобразительного искусства, а ему нужна консультация.
Мы прошли к Смелякову. Это была первая встреча после нашего отъезда с ОЛПа, и Ярослав Васильевич хотел отпраздновать ее по всем правилам. для
этого кто-то из вольных принес ему поллитра водки.
Трясущимися от нетерпения ручками он достал из заначки бутылку -- и выронил на цементный пол. Не Коля Саулов тут нужен был, а Роден -- чтобы
запечатлеть в мраморе отчаянье Ярослава. Эта трагическая фигура до сих пор стоит у меня перед глазами.
Мы утешали его: режим помягчел, на выходные зеков отпускают за зону -- выпьем у нас, на Угольной 14...
Приехала Дуся -- синеглазая, веселая, ласковая. Ей разрешили личное свидание с мужем, и они провели вместе три дня. Потом она уехала. Ярослав
был счастлив. Весело рассказывал:
-- Дуся сильно полевела. В перерыве между половыми актами вдруг сказала:
Яра, а у Молотова очень злое лицо...
Теперь он часто бывал у нас в домике. Уважительно и нежно разговаривал с Минной Соломоновной, читал новые куски из "Строгой любви".
Правда, первый визит чуть было не закончился крупными неприятностями. Мы -- как обещали -- подготовили угощение и выпивку, две бутылки красного вина.
Смеляков огорчился, сказал, что красного он не пьет. Сбегали за белым, то есть, за водкой. Слушали стихи, выпивали. Когда водка кончилась, в ход пошло
и красное: оказалось, в исключительных случаях пьет. Всех троих разморило и мы задремали.
Проснулись, поглядели на часы -- и с ужасом увидели, что уже без четверти восемь. А ровно в восемь Ярослав должен был явиться на вахту, иначе
он считался бы в побеге. И мы, поддерживая его, пьяненького, с обеих сторон, помчались к третьему ОЛПу. Поспели буквально в последнюю минуту.
Эльдар Рязанов где-то писал, что наш рассказ об этом происшествии подсказал им с Брагинским трагикомическую сцену в "Вокзале для двоих".
Прошло время, и Ярослав Васильевич женился на Татьяне Стрешневой, поэтессе и переводчице.
Она была в доме творчества "Переделкино" в тот день, когда туда приехал объясниться со Смеляковым приятель, заложивший его. Просил забыть старое, не
сердиться. Намекнул: если будешь с нами -- все издательства для тебя открыты! Ярослав не стал выяснять, что значит это "с нами", а дал стукачу по
морде. Тот от неожиданности упал и пополз к своей машине на четвереньках, а Смеляков подгонял его пинками. Это видела Татьяна Валерьевна, случайно
вышедшая в коридор. Сцена произвела на нее такое впечатление, что вскоре после этого она оставила своего вполне благополучного мужа и сына Лешу ушла
к Смелякову. Так она сама рассказывала.
После смерти Ярослава Васильевича мы отдали Тане его письма к нам и тетрадку с черновыми набросками "Строгой любви". Иногда я жалею об этом --
но если подумать: умер Смеляков, умерла Татьяна, нет уже Юлика. Скоро и меня не будет -- а кому, кроме нас, дорога эта потрепанная тетрадка?
Ильза, вольная девочка из бухгалтерии, принесла Ярославу Васильевичу тоненькую школьную тетрадку. На клетчатых страничках Смеляков стал писать у
себя в бойлерной, может быть, главную свою поэму -- "Строгая любовь". Писал и переделывал, обсуждал с нами варианты -- а мы радовались каждой строчке:
Впрочем, тут разговор иной.
Время движется, и трамваи
в одиночестве под Москвой,
будто мамонты, вымирают...
О своей комсомольской юности, о своих друзьях и подругах он писал с нежностью, с юмором, с грустью. Судьба у этой поэмы оказалась счастливой --
куда счастливей, чем у ее автора.
Впрочем сейчас, когда, как выражался мой покойный друг Витечка Шейнберг, "помойница перевернулась", переоценке подвергнута вся советская поэзия: уже
и Маяковский -- продажный стихоплет, и за Твардовским грешки водились... Что уж говорить о Смелякове! Хочется спросить яростных ниспровергателей:
помните, как такие же как вы, взорвали храм Христа Спасителя? Теперь вот отстраивают...
Вряд ли кто заподозрит меня в симпатиях к коммунистическому прошлому. Да, идея оказалась ложной. Да, были прохвосты, спекулирующие на ней -- в том
числе и поэты. Но всегда -- и в революцию, и в гражданскую войну, и после -- были люди, бескорыстно преданные ей. И преданные ею. Они для меня -- герои
высокой трагедии."
Валерий Фрид. 58 с половиной или записки лагерного придурка
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.
Порошков или капель - не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада -
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
Из воспоминаний Чуева:
На одном обсуждении Смеляков сказал:
- Мне надоели эти Евгении Онегины с партийными билетами!
Стихийный митинг
- У американского посольства готовят трибуну и стягивают милицию, - сказал он, - сейчас будет стихийный митинг протеста...
Мне рассказывали, что в день свадьбы Евтушенко с Ахмадулиной в "Правде" вышла разгромная статья о Евтушенко. В то время это много значило.
Молодожены решили зайти к Смелякову, чтобы тот их поздравил. Они предстали перед ним, и юная Белла сказала:
- Ярослав Васильевич, мы с Женей сегодня расписались и вот пришли к вам...
- Это мне напоминает свадьбу Гитлера и Евы Браун, - мрачно сказал Смеляков. Он прочитал статью...
Киноновелла "Наваждение" из "Приключений Шурика"
Шурик читает стихотворение Смелякова, 3.47
Ярослав Смеляков родился 26 декабря 1912 (8 января 1913 н.с.) в Луцке в семье железнодорожного рабочего. Раннее детство прошло в деревне, где получил начальное образование, затем продолжил учение в московской семилетке. Рано начал писать стихи.
В 1931 окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу, где публиковал свои стихи в цеховой стенгазете, писал обозрения для агитбригады. В это же время занимался в литературных кружках при "Комсомольской правде" и "Огоньке", был замечен Светловым и Багрицким.
В 1932 вышла первая книжка стихов Смелякова "Работа и любовь", которую он сам же и набирал в типографии как профессиональный наборщик.
В 1934 по необоснованному обвинению Я.Смеляков был репрессирован, выйдя на свободу в 1937. Несколько лет работал в редакциях газет, был репортером, писал заметки и фельетоны.
В первые месяцы Отечественной войны рядовым солдатом воевал в Карелии, попав в окружение, до 1944 находился в финском плену.
В послевоенные годы вышла книга "Кремлевские ели" (1948), в которую вошли лучшие стихи Смелякова, написанные до и после войны.
В 1956 была опубликована повесть в стихах "Строгая любовь", получившая широкое признание.
В 1959 появился поэтический сборник "Разговор о главном"; явлением в советской поэзии стала книга стихов "День России" (1967).
В 1968 была написана поэма о комсомоле "Молодые люди".
В последние годы поэт все чаще обращался к дням, людям и событиям своей молодости. Много ездил по стране (цикл "Дальняя поездка"), бывал за рубежом, о чем поведал в книге "Декабрь", в разделе "Муза дальних странствий".
Переводил стихотворения с украинского, белорусского и других языков народов СССР. Умер Я.Смеляков в 1972.
После смерти поэта вышли его книги "Мое поколение" (1973) и "Служба времени" (1975).
Из книги судеб. Ярослав Васильевич Смеляков (26 декабря 1912 (8 января 1913), Луцк - 27 ноября 1972, Москва) - русский советский поэт, критик, переводчик.
Родился в семье железнодорожного рабочего. Детство провёл в деревне. Рано начал писать стихи. Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу (1931). Учась в ФЗУ, публиковал стихи в цеховой стенгазете. Писал также обозрения для агитбригады. Дебютировал в печати в 1931 году. Работал в типографии. Первый сборник стихов «Работа и любовь» (1932) сам набирал в типографии как профессиональный наборщик. Как и в следующем сборнике «Стихи», Смеляков воспевал новый быт, ударный труд. Занимался в литературных кружках при газете «Комсомольская правда» и журнале «Огонёк».
В 1934 году был репрессирован. Вышел на свободу в 1937 году. Во время Второй мировой войны воевал на Северном и Карельском фронтах, попал в плен к финнам. После освобождения из плена в 1944 году Смеляков попал в лагерь, где провёл несколько лет, после освобождения въезд в Москву ему был запрещён. Работал в многотиражке на подмосковной угольной шахте. Благодаря Константину Симонову , замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь вернуться к писательской деятельности, и он продолжил публиковать стихи. В 1948 году вышла книга «Кремлёвские ели». В 1951 году по доносу Ярослав Васильевич вновь был арестован и отправлен в заполярную Инту, где просидел до 1955 года, возвратившись домой по амнистии.
 Награждён тремя орденами. Лауреат Государственной премии СССР (1967). В стихах использовал разговорные ритмы и интонации, прибегал к своеобразному сочетанию лирики и юмора. В сборниках послевоенных лет («Кремлёвские ели», 1948; «Избранные стихи», 1957) и поэме «Строгая любовь» (1956), посвящённой молодёжи 1920-х годов, обнаруживается тяготение к простоте и ясности стиха, монументальности изображения и социально-историческому осмыслению жизни.
Награждён тремя орденами. Лауреат Государственной премии СССР (1967). В стихах использовал разговорные ритмы и интонации, прибегал к своеобразному сочетанию лирики и юмора. В сборниках послевоенных лет («Кремлёвские ели», 1948; «Избранные стихи», 1957) и поэме «Строгая любовь» (1956), посвящённой молодёжи 1920-х годов, обнаруживается тяготение к простоте и ясности стиха, монументальности изображения и социально-историческому осмыслению жизни.
В произведениях позднего периода эти тенденции получили наиболее полное развитие. Одной из главных тем стала тема преемственности поколений, комсомольских традиций: сборники «Разговор о главном» (1959), «День России» (1967); «Товарищ Комсомол» (1968), «Декабрь» (1970), поэма о комсомоле «Молодые люди» (1968) и другие. Посмертно изданы «Моё поколение» (1973) и «Служба времени» (1975).
К его наиболее известным произведениям могут быть отнесены такие стихотворения, как «Любка», «Если я заболею…», «Хорошая девочка Лида», «Милые красавицы России», «Я напишу тебе стихи такие…», «Манон Леско». Песню на стихи «Если я заболею…» исполняли Юрий Визбор , Владимир Высоцкий , Аркадий Северный и другие.
 Ч
ерез пару месяцев после окончания университета я, свежеиспечённый инженер, неожиданно для самого себя увлёкся спелеологией. В нашей группе был самым юным, но не чувствовал этого. Солидные инженеры и эсэнэсы, облачившись в штормовки и забросив за спины рюкзаки, забывали и о возрасте, и об учёных степенях, превращаясь в весёлых, компанейских парней. Спуски и подъёмы, блуждание по удивительному подземному миру Крыма наполняли пролетавшие осенние дни.
Ч
ерез пару месяцев после окончания университета я, свежеиспечённый инженер, неожиданно для самого себя увлёкся спелеологией. В нашей группе был самым юным, но не чувствовал этого. Солидные инженеры и эсэнэсы, облачившись в штормовки и забросив за спины рюкзаки, забывали и о возрасте, и об учёных степенях, превращаясь в весёлых, компанейских парней. Спуски и подъёмы, блуждание по удивительному подземному миру Крыма наполняли пролетавшие осенние дни.
А через неделю после возвращения домой один из новых друзей пригласил меня к себе домой послушать интересный рассказ. Удивившись, пришёл. Рассказ услышал. Точнее, поэму под названием «Пепо» - пещерный поход - с описанием наших приключений: «Где стоит на карте точка, / не с вином там будет бочка, / а огромная дыра. / Слазить нам туда пора».
Слушали с удовольствием, сопровождая декламацию весёлым хохотом. А когда чтение закончилось, я спросил Владимира (автора), пишет ли он серьёзные стихи. Володя с улыбкой ответил, что когда-то писал. И даже посылал своему любимому поэту. «Ну и что? Ответил?» - допытывался я. «А как же: “Уважаемый товарищ П.! Если Вы не умеете писать стихи, то, пожалуйста, их не пишите. С уважением, Ярослав Смеляков”». О своём конфузе несостоявшийся стихотворец рассказывал почти с гордостью. Меня это удивило. По молодости лет.
На тот момент я знал всего два стихотворения Смелякова - благодаря Гайдаю («Девочка Лида») и Визбору («Если я заболею»). Настоящее знакомство случилось позже, когда купил в букинисте «Избранное» - солидный чёрный том небольшого формата. Впечатление было странное. Казалось, книгу писали два разных поэта. Первый: талантливый советский бытописатель, мастерски рифмующий всё на свете, от смерти Пушкина , в которой почему-то оказался виновен последний русский император, до дворового забивания козла. И второй: фантастический лирик, писавший так, что при чтении приостанавливается дыхание.  В «Манон Леско» влюбился с первого прочтения, «эти сумасшедшие слова» были сказаны как будто за меня и обо мне. От удивительных переводов с идиша, из Матвея Грубияна, просто не мог оторваться:
В «Манон Леско» влюбился с первого прочтения, «эти сумасшедшие слова» были сказаны как будто за меня и обо мне. От удивительных переводов с идиша, из Матвея Грубияна, просто не мог оторваться:
Вспоминаю в июле, -
сердце, тише тоскуй! -
предрассветную пулю
и ночной поцелуй.
Строки поэта поражали первозданной естественностью, силой, мощью:
Я награжу тебя, моя отрада,
бессмертным словом и предсмертным взглядом,
и всё за то, что утром у вокзала
ты так легко меня поцеловала.
 Любовь к поэту сохранилась на всю жизнь. Хотя, перефразируя Пущина, «не всем его стихам я поклоняюсь». Честно говоря, львиная доля из них вызывает сожаление. Написать такое вполне мог и казённый стихоплёт, каковых хватало всегда.
Любовь к поэту сохранилась на всю жизнь. Хотя, перефразируя Пущина, «не всем его стихам я поклоняюсь». Честно говоря, львиная доля из них вызывает сожаление. Написать такое вполне мог и казённый стихоплёт, каковых хватало всегда.
К ем же он был, русский поэт Ярослав Смеляков, соединивший в себе, казалось бы, несоединимое: тончайший аристократизм и беспардонную грубость, личное отчаяние и казённый оптимизм, упоённое служение своему дару и его откровенное разбазаривание? Понимал ли «трижды зэк Советского Союза / и на склоне лет - лауреат» (Илья Фоняков) цену, которую пришлось ему заплатить советскому Молоху за прижизненное признание? Или его предсказуемость, «хамство и пьянство», «похабство» правильных «интервью» (В. Корнилов) были той барщиной, которую он взвалил на себя, чтобы обезопаситься? И писать настоящее, не заёмное, вневременное? Не потому ли Штейнберг , В. Корнилов , Самойлов , не причастные, в отличие от Смелякова, к официально-советской мерзости вроде травли Солженицына, считали поэта своим - и восхищались его стихами?
Дадим слово самому Смелякову:
Я понял мысли верным ходом
средь достижений и обид -
своим избранникам природа
за превосходство нагло мстит.
Француза, сделанного тонко
из вкуса, сердца и ума,
поставит вдруг на четвереньки
и улыбается сама.
И гениального мальчишку
средь белоблещущих высот
за то, что он зарвался слишком,
рукой Мартынова убьёт.
И я за те мои удачи,
что были мне не по плечу,
сомкнувши зубы, не запла чу,
а снова молча заплачу .
 Исповедальные строки написаны за четыре года до смерти. Он и платил. Молча. Тратя «своё первородство / на довольно убогий почёт» (В. Корнилов). Страдая от этого и сжигая пьянками давно подорванное здоровье.
Исповедальные строки написаны за четыре года до смерти. Он и платил. Молча. Тратя «своё первородство / на довольно убогий почёт» (В. Корнилов). Страдая от этого и сжигая пьянками давно подорванное здоровье.
Ноябрь 2014
Специально для альманаха-45
Стихи, посвящённые поэту
Аркадий Штейнберг
Не пора ли, братцы, в самом деле,
Начиная лет с пяти-шести,
Снова наказания на теле
Для удобства граждан завести?
Примем это мудрое решенье,
Возродим здоровый русский кнут:
С ним легко любое прегрешенье
Искупить на месте в пять минут.
Сталин был отнюдь не демократом
И посмертно осуждён не зря,
Обходился круто с нашим братом,
В тюрьмы заключал и лагеря.
Для чего бесхитростную тётку,
Что фарцует кофты и бельё,
Умыкать от мужа за решётку
И баланду тратить на неё?
Чем швырять на ветер сотни тысяч,
Государству есть расчёт прямой:
Лучше спекулянтку тут же высечь,
Справку дать и отпустить домой.
Лично я всегда стою за плети,
И теперь особенно стою,
Прочитав недавно в Литгазете
Некую идейную статью.
Выступлю публично в странной роли,
Свойственной призванью моему:
Я хочу, чтобы меня пороли,
Не сажая в лагерь и тюрьму.
Если я самоконтроль ослаблю,
Предпочту американский джаз,
Продуктовый магазин ограблю,
Невзначай женюсь в четвёртый раз,
Буду шарить по чужим карманам
Или стану - Боже упаси! -
Абстракционистом окаянным
По прямым приказам Би-Би-Си, -
Обращусь к властям я с просьбой скромной,
Чтоб меня отечески посек
Не специалист вольнонаёмный,
А простой советский человек.
Пусть меня дерут не генералы,
Не славянофилы из жидков,
А природный православный малый -
Ярослав Васильич Смеляков.
Вы вовек другого не найдёте
Ни в стихосложенье, ни в гульбе,
Коренной русак по крайней плоти, -
Гласно заявил он о себе.
Он не сноб, не декадент лощёный,
Так сказать, духовная родня,
Между прочим, бывший заключённый.
Я хочу, чтоб он порол меня.
Нам во имя равенства и братства,
Для внедренья правды и добра
Человечное рукоприкладство
Широко распространить пора.
Смеляков
Не был я на твоём новоселье,
И мне чудится: сгорблен и зол,
Ты не в землю, а вовсе на север
По четвёртому разу ушёл.
Возвращенья и новые сроки
И своя, и чужая вина -
Всё, чего не прочтёшь в некрологе,
Было явлено в жизни сполна.
За бессмертие плата - не плата:
Светлы строки, хоть годы темны...
Потому уклоняться не надо
От сумы и ещё от тюрьмы.
Но минувшее непоправимо.
Не вернёшься с поэмою ты
То ль из плена, а может, с Нарыма
Или более ближней Инты.
Отстрадал и отмаялся - баста!
Возвышаешься в красном гробу,
Словно не было хамства и пьянства
И похабства твоих интервью,
И юродство в расчёт не берётся,
И все протори - наперечёт...
И не тратил своё первородство
На довольно убогий почёт.
До предела - до Новодевички
Наконец-то растрата дошла,
Где торчат, как над лагерем вышки,
Маршала, маршала, маршала.
В полверсте от литфондовской дачки
Ты нашёл бы надёжнее кров,
Отошёл бы от белой горячки
И из памяти чёрной соскрёб,
Как ровняли овчарки этапы,
Доходяг торопя, теребя,
Как рыдали проклятые бабы
И, любя, предавали тебя...
И совсем не как родственник нищий,
Не приближенный вдруг приживал,
А собратом на тихом кладбище
С Пастернаком бы рядом лежал.
Памяти Смелякова
Мы не были на «ты»
(Я на семь лет моложе),
И многие черты,
Казалось, в нас не схожи.
Он был порою груб
И требовал признанья.
Но вдруг срывалось с губ
Заветное желанье -
Желанье быть таким,
Каким он быть боялся.
И с неба серафим
Тогда к нему спускался.
Тогда в распеве строф,
Немыслимых вначале,
Звучали пять-шесть слов,
Что спать нам не давали.
Наверное, он знал,
Что восхваленья пошлы
И что к его словам
Прислушаются позже.
И вот уже молва
К поэту благосклонней...
Он вырос, как трава
На каменистом склоне.
И отошёл легко
В блаженный сон России
Смеляков
Ярослав Васильич.
Борис Суслович
Запоздалый реквием
…его мололо время,
и он его молол.
Я. Смеляков
К таланту - отсидки в нагрузку,
И пьянки, и ранняя смерть.
О счастье и думать не сметь
По-русски ли, по-белорусски.
Значок прицепила судьба
(Почти канцелярская мета
Для зэка, страдальца, поэта):
Не лауреата - раба.
Илья Фоняков
Вот он весь - поношенная кепка,
Пиджачок да рюмка коньяка,
Да ещё сработанная крепко
Ямба старомодного строка.
Трижды зэк Советского Союза
И на склоне лет - лауреат,
Тот, за кем классическая муза
Шла, не спотыкаясь, в самый ад, -
Что он знал, какую тайну ведал,
Почему, прошедший столько бед,
Позднему проклятию не предал
То, во что поверил с юных лет?
Схожий с виду с пожилым рабочим,
Рыцарь грубоватой прямоты,
Но и нам, мальчишкам, между прочим,
Никогда не говоривший «ты», -
Он за несколько недель до смерти,
Вместо громких слов про стыд и честь,
Мне сказал: «Я прожил жизнь. Поверьте,
Бога нет. Но что-то всё же есть...»
Иллюстрации:
фотографии Ярослава Смелякова разных лет;
обложки нескольких книг;
последний приют поэта…
Окончание. Начало в №452
Одно из происшествий вполне благополучного для него в прочих отношениях 1961 года, тщательно утаиваемое биографами этого человека, на наш взгляд, поможет лучше понять, насколько был искренен Смеляков, когда писал свое стихотворение «Мальчишки» («О прошлом зная понаслышке, / С жестокой резвостью волчат…»).
Одним из этих «мальчишек» во второй половине 50-х годов был для прошедшего огонь и воду Ярослава Смелякова Володя Соколов, недавний студент Литературного института и автор пока единственной поэтической книжки «Утро в пути» (1953). По свидетельству сестры Соколова Марины Николаевны, «Володя обожал его стихи и часто вслух декламировал и знаменитую «Любку Фейгельман», и «Хорошую девочку Лиду», и «Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду, постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом…»
Вскоре Соколов оказывается в числе ближайших учеников мэтра, руководившего отделением поэзии СП. К этому времени молодой человек был женат, имел маленького сына Андрея, немного позже родилась дочь Снежана. Женой начинающего поэта была Генриетта Христевна Попова, болгарка. В 1954 г. она окончила философский факультет МГУ, в 1955-м они поженились. Генриетта, которую в быту называли Бубой, преподавала болгарский язык в Литературном институте, Владимир работал секретарем секции поэзии в СП. Первое время они проживали вместе с матерью и сестрой Соколова на Никольской улице. В 1957-м получили двухкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте, по соседству с домом, где жил Смеляков.
Однажды, воспользовавшись начальственным по отношению к Соколову положением, Смеляков отправил его в командировку в Братск, а сам пришел в его квартиру и соблазнил Бубу. Очевидно, обычная в его практике интрижка обернулась для Генриетты настоящей трагедией. Она всерьез влюбилась в этого человека, пленившего ее, по мнению М. Н. Соколовой, стихами и ореолом мученика. Между ними завязался роман, вскоре ставший достоянием всей литературной Москвы. Не знали о нем только Соколов и его родные.
Смелякова все как будто устраивало, его жена привычно помалкивала. Первой устала лгать Буба. Утром 31 марта 1961 г., когда дети находились в Болгарии у ее матери, она обо всем рассказала Соколову, приведя его в состояние шока. Он вышел из дома и, пройдя пешком километров двадцать, оказался в квартире матери на Никольской. Буба в это время отправилась к Смеляковым. Дверь ей открыла Татьяна Стрешнева, а Смеляков не нашел ничего лучше, как оскорбить и выгнать соблазненную им женщину прямо с порога квартиры.
Далее предоставляю слово М.Н. Соколовой: «Она вернулась домой, и тут выяснилось, что второпях она забыла ключ дома, а дверь захлопнула. Они жили на втором этаже. В это время к ней пришли гости: Галя, жена Евтушенко, и поэт Александр Межиров, все стояли на лестничной площадке. Мимо шла жена писателя Ажаева, узнав, что Генриетта забыла дома ключ и они не могут войти, она пригласила всех к себе, на восьмой этаж. Далее рассказывали, что Генриетта стала вести себя так странно, что они вызвали врача, а ее уложили на кровать в отдельной комнате. Оставили там ее одну, а когда вошли посмотреть, как она себя чувствует, окно было открыто, и ее в комнате не было. Она умерла мгновенно. <…> Буба лежала в морге. Ночью мне приснился сон. Она в белом платье, в котором ее должны были хоронить, передает мне ребенка - это Снежана. Ждали решения ее матери, где хоронить, в Болгарии или России. Иванка Ангеловна решила: в России. А Ярослав Смеляков? Ни разу не объявившись, он срочно, когда она была еще в морге, улетел в Прибалтику, в Дом творчества. А она-то, наверное, думала, как он будет переживать, стоя у ее гроба».
За случившееся Смеляков не понес никакой ответственности. Может быть, он был более искренен, когда писал:
Но как он страшен,
посвист старый,
как от мечтаний далека
ухмылка наглая гусара,
гусара наглая рука.
Как беспощадно пробужденье,
когда она молчит,
когда,
ломая пальчики,
в смятенье,
бежит - неведомо куда:
к опушке, в тонкие березы,
в овраг - без голоса рыдать.
Не просто было эти слезы
дешевым пивом запивать.
Их и сейчас еще немало,
хотя и близок их конец,
мужчин красивых и бывалых,
хозяев маленьких сердец.
У них уже вошло в привычку
влюбляться в женщину шутя:
под стук колес,
под вспышку спички,
под шум осеннего дождя.
Они идут, вздыхая гадко,
походкой любящих отцов.
Бегите, Катя, без оглядки
от этих дивных подлецов.
Эти никуда не исчезающие гусары, дантесы, «дивные подлецы», которые все идут и идут, «вздыхая гадко», - не типичный ли для ущербного русского сознания образ чужого, в которого вечно рыщущая в поисках нравственной опоры совесть запихивает свои собственные нечистоты?
Последние 15–20 лет жизни нравственную опору Смеляков искал там, где опереться, в сущности, было не на что. Речь идет о «великом русском народе». Во-первых, никакого величия от народа, так и не успевшего до начала трагических событий 1914–1917 гг. оформиться в современную политическую нацию, к тому времени не осталось. Дорогая сердцу поэта советская власть довершила разрушение, начатое в 1914-м властью царской. На месте некогда единого, набиравшего силу народа была теперь расползающаяся, не поддающаяся определению масса, кое-как выбравшаяся из-под жерновов нескольких истребительных войн, массовых депортаций и планомерного государственного террора, всего более походившего на самоуничтожение. Она уже давно ни во что не верила, смирилась с происходившим и была занята элементарным выживанием.
Здесь самое время вспомнить о времени и месте рождения Смелякова: 1913-й, Волынь. Канун великой войны, место развернувшихся вскоре ожесточенных сражений двух огромных армий. Именно летнее немецкое наступление 1915-го привело к бегству семьи будущего поэта в российскую глубинку и на долгие годы лишило его малой родины (до 1918-го Волынь находилась под немецко-австрийской оккупацией, с 1919-го по 1939-й входила в состав Польши, с 1941-го по 1944-й - снова под немецкой оккупацией). За это время «русский дух» окончательно выветрился из этой земли. Увы, не только там. В аналогичном положении оказались огромные пространства Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и Прибалтики. Никакого стремления к возвращению в «родное лоно» населявшие эти земли народы отчего-то не проявили. Странно, что столь очевидные факты не заставили Смелякова, уроженца Волыни, задуматься о причине произошедшего. Или, может быть, задумывался, да ответ искал не там, где надо?
Так или иначе, но летнее немецкое наступление 1915 г. ознаменовало начало распада Российской империи. Сразу выяснилось, что единого национального государства на ее необозримых просторах не существовало и населявшие их народы, весьма не похожие друг на друга, в минуту серьезного кризиса готовы очертя голову отдаться центробежным силам. «Великороссы», которых до сих пор кто-то все еще считает государствообразующим народом, свою «великую империю» от развала не только не удержали, но, сразу после поражения в войне отечественной, втянувшись в еще более разрушительную и кровопролитную гражданскую, как раз и сделали для этого все возможное. Интернациональная преступная группировка, оказавшаяся в результате у власти, создала лишь внешне казавшуюся прочной конструкцию, всего за полвека прогнившую до основания и при первом же чувствительном толчке развалившуюся в считанные дни на глазах у всего мира. Теперь модно говорить о рухнувшей экономике, угрозе голода и тому подобных вещах как о главной причине произошедшего. Как будто этого не случалось раньше! Распад страны произошел по единственной причине: отсутствия главной скрепы государства - современной нации, подобной тем, какие давно существовали в большинстве стран Западной и Центральной Европы.
Можно сколь угодно долго писать людям в паспортах «русский», «татарин» или «украинец» - никого из них тем самым не превратишь ни в одного, ни в другого, ни в третьего. Можно даже огромную империю переименовать в «Российскую Федерацию» - но ни русской, ни российской, ни любой другой нации этой мерой не создашь и даже толчка для начала необходимого движения не вызовешь. Нации образуются движением снизу, исподволь. Это довольно долгий, малозаметный, почти растительный процесс. Основным внешним признаком, указывающим на его необратимость, является создание жизнеспособного национального государства. Но на географическом пространстве, называемом сегодня Россией, ничего подобного пока еще не возникало. Ни Московское царство, ни Российская империя, ни Советский Союз, в котором Смеляков прожил практически всю жизнь, национальными государствами не являлись. Очевидно, по этой причине любая здешняя власть, не нащупывая ничего прочного, самоорганизованного, саморегулируемого и самодостаточного, всякий раз стремилась сама создать такую силу. Имя ей - чиновничество, численность которого и сегодня поражает воображение. Но весь фокус в том, что народ, веками управляемый этой многомиллионной армией и привыкший к подчиненному, безответственному состоянию, так и будет оставаться в лучшем случае народом, в худшем же - и вовсе превратится в безликую атомизированную массу. Разумеется, у него сохранятся какие-то обычаи, исторические воспоминания, мифы, песни, пляски, зрелища, любимцы и вожди. Со временем они будут представлять интерес для бытописателей, коллекционеров, этнологов и музейных работников.
Короткий по мировым меркам подъем русской литературы и искусства (начиная с Пушкина, Глинки и Айвазовского и заканчивая Чеховым, Чайковским и Репиным) лишь подтверждает вышесказанное, ибо он протекал фактически одновременно с начавшимся процессом формирования русской нации. Кого-то, очевидно, смутит или даже возмутит слово «начавшимся». О каком, мол, начале может идти речь, если русская нация, как, очевидно, полагал и Смеляков, и его духовные вожди, сформировалась при Иване Грозном, а то и раньше. Боюсь, однако, что в нашем языке нет более спорного понятия, чем нация. Мало-мальски точно не установлено, даже когда появилось у нас это слово. Наиболее адекватное определение нации дано, пожалуй, в «Большом словаре иностранных слов» (М., 2006): «Исторически сложившаяся совокупность людей, имеющая общее происхождение, язык и культуру». В нашем случае важнейшими характеристиками являются язык и культура, так как общее происхождение русских, белорусов и украинцев вряд ли вызывает у кого-то сомнение. Только язык и культура достаточно далеко развели их к моменту возникновения независимых государств, лишь внешне оформившего давно существовавшие различия. Но язык, на котором создан весь корпус русской литературы, театра, кино, вокальных жанров и эстрады - это тот, у которого имеются два конкретных создателя - Н. М. Карамзин и А. С. Пушкин, - отделенные от нас менее чем двумя столетиями. Культура же, которая создавалась на базе этого языка, вряд ли вообще сделалась бы общенациональной (как не стала таковой для русских с одной стороны и украинцев, чеченцев, татар с другой) до тех пор, пока существовало узаконенное рабство и почти поголовная безграмотность основной части населения. События Гражданской войны очевидным образом показали, что в случае продления института крепостного права на десяток-другой лет, распад империи произошел бы скорее по географическим, а не по «национальным» границам. Это отнюдь не фантастический сценарий, от которого Россия и сейчас не застрахована. Существовали же на протяжении нескольких веков два «русских» государства - Московское и Литовское княжества. Таким образом, говоря о первой трети XIX века как о времени, когда началось формирование русской нации, мы остаемся в рамках логики, вытекающей из вышеприведенных фактов и определений.
Самоубийственная бойня 1914–1917 гг., в которую власть ввергла совершенно неподготовленную к тотальной войне страну, привела к краху государства и оборвала это жизненно необходимое движение. Все, происходившее потом, было лишь следствием этой рукотворной катастрофы.
Подростковое сознание еще не сформированной нации, о которой правильнее все же говорить как о народе, оказалось как бы закупоренным в бутылке, пущенной на волю волн. Что это за волны, мы знаем: войны, депортации, террор, фальшивые «оттепели» и «ужесточения режима». И безостановочная пропагандистская ложь. В подобных условиях и от народа-то как цельного организма мало что останется, что уж говорить о нации!
Поэтому и Смеляков, искавший себе нравственную опору там же, где покровительствовавшие ему партийные чиновники так называемой «русской партии» С. Павлов, Ю. Мелентьев и А. Шелепин искали опору физическую, не находил ничего, кроме бесконечных воспоминаний о военных и трудовых подвигах «советских поколений».
Будучи поэтом по преимуществу лирическим и, несомненно, талантливым, он, разумеется, оставил след в истории советской поэзии ХХ века. Но для будущих историков интересен он будет не столько как поэт, сколько как ярчайшее зеркало полной неподвижности массового русского сознания. Эту неподвижность лучше всего передает образ облаков, усеивающих небо в ожидании очередного порыва ветра. Конечно, рано или поздно он их куда-то унесет, но приплывут другие, такие же, и точно так же неподвижно усеют небо. Избавиться от них невозможно.
Не облатками белыми путь
мой усеян, а облаками… -
признавался Смеляков.
Михаилу Лермонтову, личности совершенно иного типа, на заре формирования русской политической нации эти атмосферные явления навевали другие мысли:
Чужды вам страсти
и чужды страдания;
Вечно холодные,
вечно свободные,
Нет у вас родины,
нет вам изгнания.
Прошло всего ничего - сотня лет, и место изгнания стало с легкостью превращаться в родину, а родина - в место изгнания. Гений, создавший четыре тома литературных шедевров, едва зарабатывал на жизнь в качестве офицера действующей армии. Сочинитель десятка удачных лирических стихов мановением волшебства превращался в обеспеченного до конца дней государственного служащего.
Чýдны дела твои, Господи!