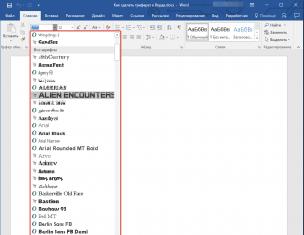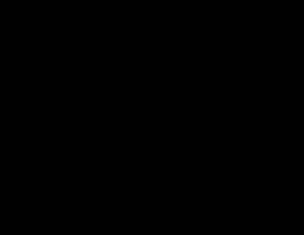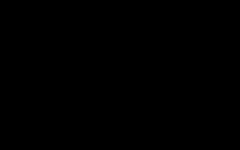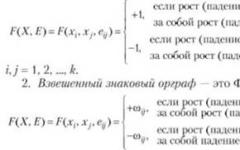С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.
Переутомление
Посв<ящается> исписавшимся "популярностям"
Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать…
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца, -
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда -
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.Паралич спинного мозга!
Врешь, не сдамся! Пень-мигрень,
Бебель – стебель, мозга-розга,
Юбка-губка, тень-тюлень.Рифму, рифму! Иссякаю -
К рифме тему сам найду…
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду.Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин – разбитым горшком…Нет, не сдамся… Папа-мама,
Дратва-жатва, кровь-любовь,
Дама-рама-панорама,
Бровь, свекровь, морковь… носки!
Два толка
Одни кричат: "Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи -
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?"Другие возражают: "Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди".Им спора не решить… А жаль!
Ведь можно наливать… вино в хрусталь.
Недержание
У поэта умерла жена…
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна -
Но поэт не умер от удара.После похорон сел дома у окна,
Весь охвачен новым впечатленьем -
И спеша родил стихотворенье:
"У поэта умерла жена".
Сиропчик
Дамам, чирикающим в детских журналах
Дама, качаясь на ветке,
Пикала: "Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик…
Птичка оправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку…"Дети, в оконные рамы
Хмуро уставясь глазами,
Полны недетской печали.
Даме в молчанье внимали.
Вдруг зазвенел голосочек:
"Сколько напикала строчек?.."
Корней белинский
Закрыв глаза и перышком играя,
Впадая в деланный холодно-мутный транс,
Седлает линию… Ее зовут – кривая,
Она вывозит и блюдет баланс.Начало? Гм… Тарас убил Андрея
Не за измену Сечи… Раз, два, три!
Но потому, что ксендз и два еврея
Держали с ним на сей предмет пари.Ведь ново! Что-с? Акробатично ново!
Затем – смешок. Стежок. Опять смешок.
И вот – плоды случайного улова -
На белых нитках пляшет сотня строк.Страница третья. Пятая. Шестая…
На сто шестнадцатой – "собака" через "ять"!
Так можно летом на стекле, скучая,
Мух двадцать, размахнувшись, в горсть поймать.Надравши "стружек" кстати и некстати,
Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на а́нглийской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.Кустарит парадокс из парадокса…
Холодный пафос недомолвок – гол,
А хитрый гнев критического бокса
Всё рвется в истерический футбол…И наконец, когда мелькнет надежда,
Что он сейчас поймает журавля,
Он вдруг смущенно потупляет вежды
И торопливо… сходит с корабля.Post scriptum. Иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош , -
Тогда гремит в нем гений исполинский
И тогой с плеч спадает макинтош!
Читатель
Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии
И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.Утешаюсь одним лишь – к приятелям
(Чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:
"Кто читал Ювенала
Константин (он же Кирилл) Михайлович Симонов (1915-1979) --
выдающийся советский всеобщий любимец эпохи Сталина и пары после-
дующих эпох. Лауреат шести Сталинских премий и одной Ленинской.
Поэт, прозаик, драматург, киносценарист, журналист, переводчик
(стихов Киплинга с английского), ведущий одной телепередачи,
литературный функционер, полковник Советской Армии.
Согласно испанской королевской Википедии, по матери Симонов
происходит аж из Рюриковичей: "Su madre era la princesa
Obolenskaya, perteneciente a una familia rurikida."
На языках братских центральноевропейских народов из бывшего
советского лагеря википедийная информация о Симонове -- приблизи-
тельно по одной печатной странице (вместе со списком основных
публикаций), что говорит о незначительности интереса к нему.
В раннесоветское время Симонов распространял слух, что папа его
-- не царский генерал, а пропавший без вести красноармеец. Но то-
варищ Сталин, считают, знал горькую правду, но почему-то не до-
пускал, что Симонов при случае отомстит Советской власти за поте-
рю своих наследственных привилегий.
В Великую Отечественную войну Симонов много путешествовал по
фронтам, но больше по ближним тылам. Перебрасываясь с одного
участка фронта на другой, он с пером в руках оборонял Москву,
Одессу, Сталинград и Кавказ (подтверждено получением соответству-
ющих медалей), освобождал Монголию, Румынию, Болгарию, Югославию,
Польшу (медали за это в основном тоже имеются), а напоследок брал
Берлин. В промежутках между боями писал стихи, пьесы и киносцена-
рии и получал за них Сталинские премии.
Под настроение Симонов как-то даже сам признался: "Я не был сол-
датом, был всего только корреспондентом." Тем не менее, докоррес-
пондентился он за четыре года аж до звания полковника (начав, как
мой дед по матери, с интенданта второго ранга).
После войны Симонов в течение трёх лет побывал в таинственных
длительных зарубежных командировках в Японии, США, Китае и Фран-
ции. Подозреваю, что его задействовали не только для заманивания
буниных в ГУЛАГ, но также по линии аналитической разведки -- по
личному указанию тов. Сталина. А может, и разведки агентурной:
ловили престарелых белогвардеек на его импозантные усы и любовную
лирику.
По-видимому, сознавая незаслуженность своего статуса и позор-
ность своего прежнего сталинизма, имевшего место в раннем лите-
ратурном возрасте, Симонов в 1960-х насовершал ряд благих дел,
среди которых "возвращение читателю романов Ильфа и Петрова,
выход в свет булгаковского "Мастера и Маргариты"" (Википедия).
Правда, говорят, он же протолкнул в советскую культуру и "По ком
звонит колокол" свихнувшегося алкоголика Хемингуэя.
Ещё Симонов после войны портил кровь "безродным космополитам"
(а сам-то хоть кто был?), громил Зощенко и Ахматову, травил Бори-
са Пастернака (но не буквально), строчил письма против Солженицы-
на и Сахарова (но тут хоть имелись основания).
Первая супруга Симонова -- Наталья Викторовна Гинзбург, вторая
-- Евгения Самойловна Ласкина (обе -- разумеется, "безродные кос-
мополитки"). Третьей супругой стала актриса Валентина Васильевна
Серова, вдова лётчика, искусственная блондинка, под конец жизни
-- алкоголичка. Сына Серовой от её первого мужа Симонов сплавил
за Урал, где тот, оказавшись без должного присмотра, попал в
колонию, а потом тоже стал алкоголиком, причём тяжёлым. Родную
дочь Машу, сделанную на пару с Серовой, Симонов потом тоже спла-
вил, но только к тёще. Последняя половина Симонова -- Лариса
Алексеевна Жадова, в девичестве Жидова, дочь генерала армии
Жадова. Якобы не еврейка, тем не менее, специалистка по русскому
авангарду, пропихивавшая через Симонова этот самый авангард в
многострадальную советскую культуру. К тому же вдова поэта Семёна
Гудзенко, таки еврея (помер от опухоли мозга). Дочь Симонова от
этой Жадовой, Александра (1957-2000), скончалась от рака.
Сам Симонов тоже помер от рака, но ему как курильщику это вроде
бы и положено.
В общем, рак, авангард, политический экстремизм (а сталинизм --
это он), алкоголизм, стихи, неустойчивость в браке, примесь ев-
рейской крови -- всё по Григорию Климову, как ни крути эти факты
в порыве старого доброго скепсиса.
Примеры кривого у Симонова:
Я не могу писать тебе стихов
Ни той, что ты была, ни той, что стала.
И, очевидно, этих горьких слов
Обоим нам давно уж не хватало.
(1954)
По-совсем-русски можно сказать "я не могу отрезать тебе колбасы"
и "я не могу резать тебе колбасу", но нельзя сказать "я не могу
резать тебе колбасы". С писанием стихов почти то же самое.
Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готовясь броситься в атаку,
Винтовку вскинул на бегу,
("Атака", 1942)
Если солдат, ещё только "готовясь броситься", вскинул НА БЕГУ"
винтовку, то надо полагать, что когда он таки бросится, то поле-
тит уже, почти как пуля. Точнее, как снаряд.
Нет слов таких, чтоб ими описать
Всю нетерпимость горя и печали.
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин
Горе -- та же самая эмоция, что и печаль, только в большей
степени. И что такое "нетерпимость горя"? Если ты не застре-
лился, не повесился и т. д., а просто стихи пишешь, значит, таки
терпишь ещё.
«У поэта умерла жена…»
Весь мир пытался развеселить его. И он преувеличенно громко смеялся над абсолютно не смешными шутками приятеля, а может они были смешными, но он их не слушал. Когда девчонка на подиуме принимала особенно соблазнительные позы, Сергей сам с видом заправского развратника чмокал губами, начинал обсуждать обнажаемые прелести стриптизерши, и с готовностью подхватывал со стола бокал, едва Женька произносил новую нелепую здравицу за его здоровье.
Но почему же так гадко на душе?
« У поэта умерла жена…»
Вот привязалось! Эти строчки Саши Черного помимо его желания лезли в голову. Заполняли собой все пространство черепной коробки. Сверлили мозг и отодвигали на второй план все прочие мысли. Почему умерла? Ольга не умирала, она просто ушла! Просто… Слово-то, какое дурацкое! Нет, все не так просто! Были слезы, были упреки, были оскорбления!
Неожиданно для себя Сергей громко продекламировал:
«У поэта умерла жена...
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна –
Но поэт не умер от удара.
После похорон пришел домой – до дна
Весь охвачен новым впечатленьем –
И спеша родил стихотворенье:
"У поэта умерла жена"».
Женька удивленно вытаращил глаза, «недопроглотив» очередную порцию, а потом проглотил, и залился пьяным ухующим, визгливым смехом.
-Дрюня! До дна! Ты чего с дуба рухнул?! Сам придумал?
- Нет. Это Саша Черный…
-Черный?! Грузин что ли?
-Нет, русский…
- А папа у него был турецко подданный! - Женька Чуев первый раз «сел» на четвертом курсе библиотечного института – с классикой успел познакомиться, знал, но не любил. - Да хрен с ним! Давай еще дерябнем вискарика! Ё-моё! Бухло-то кончилось! Пойду схожу, а то не дождешься!
Наблюдая, как приятель неуклюже, стараясь не расплескать себя, пробирается между столиками, Сергей вздохнул. «Наверное, Ольга никогда не любила меня». По молодости повелась на очарование длинноволосого поэта. Вздыхала, блаженно прикрывала глаза. Правда, читал он ей стихи все больше своих друзей. Свои почему-то стеснялся. Минуло двадцать лет. Длинных волос нет и в помине, спереди их уже поглотила стремительно расползающаяся лысина. Да и профессиональным поэтом так и не стал. Офисный служащий. Без нужных связей, без больших денег, без перспектив на будущее.
«Я выходила замуж за поэта Сергея Дронова, а не за тупой мебельный шкаф, который даже не может пошевелить створками, чтобы чего-то добиться. Ты можешь ходить в одном задрипанном пальто десять лет и питаться просроченными консервами, а я нет! Я хочу норковую шубу и бутерброды с черной икрой! Где «тысячи сияющих звезд» и «чарующий свет луны», которые ты мне обещал? Ты даже сапоги мне не можешь купить! Неудачник!»
А он? Даже сейчас ему было стыдно за свой истерический голос. Он назвал жену проституткой, готовой за деньги жить с нелюбимым человеком и ушел.
Потом он долго сидел на облезлой скамейке в парке, пил из горлышка противную теплую водку и плакал. Вернулся домой, но Ольги уже не было. Её телефон говорил по-английски, абонент не доступен. Он снова пил водку, и снова плакал, уже сидя на спинке другой скамейки, на бульваре погруженном в вечерние сумерки.
Там его и «подобрал» старый институтский приятель, ныне преуспевающий бизнесмен Женька Чуев. Сколько лет, сколько зим прошло? Достаточно, чтобы сухопарый атлет, протаскавшийся всю срочную службу с пулеметом по горам, демобилизованный боец штурмовой бригады, поступивший в «девчачий» институт, превратился в холеного, лощенного, сильно раздобревшего в талии дядьку, с узкими щелочками глаз на оплывшем лице. Зато глаза-то по-прежнему озорные. Голубые с искрой безуминки. Обнялись. Женька затащил его в свой BMW Х6, и выслушав: «Не к такому ли богатею ушла Ольга? Хозяева жизни! Твари!», спокойно ответил: «Сопли, подбери!»
Сергей был готов врезать кулаком по его наглой ухмыляющейся роже! Но не врезал. Наоборот, услышав: «Поехали тоску лечить», расплылся в улыбке, как блин, и позволил отвезти себя в ночной клуб, за вечер в котором пришлось пожертвовать месячной зарплатой, несмотря на утверждение путеводителя по злачным местам города, о том, что средний чек здесь всего лишь 1,5-2 тысячи рублей.
Живут же люди. Миловидные официантки в немыслимо коротеньких юбочках, передвигаются в волнах веселого шума, пестрого света и музыки повтором единственной фразы нокаутирующей мозг. Всё тут вычурно, красиво, но от децибел пухнут уши, а от сигаретного дыма и неиссякаемых запасов виски кружится голова. Женька выслушал его историю дважды. Сам же без остановки травил байки о прошлом и будущем, не стесняясь настоящего, учил друга благодарно засовывать девушкам в трусы сторублевые купюры – меньше нельзя, обидишь. Сергей сначала притворялся, что ему интересно, потом его тошнило, потом, кажется, стало действительно интересно. Потом он вспомнил Сашу Черного. Потом Женька ушел за выпивкой.
Потом он вспомнил Сашу Веселова, тот не был классиком, зато у него был какой-то стишок про бар, который вдруг запросился из глубины мутных потоков Дроновского сознания:
«Дискотека. Душный зал.
Бар. Поношенные джинсы.
Вечер. Скука. Рок. Свет. Бал.
Танцы века, а век быстрый.
Звуки. Блики. Какофония.
Пульс и дыханье в норме.
Угол. Тень. Там меня
Мать своей грудью кормит.»
Тридцать лет прошло. А как сейчас…
Память – услужливая гадюка. То у неё номер собственного телефона не выспросишь, а тут, пожалуйста. Восемьдесят второй год. После третьего курса стройотряд. Битва за урожай на бескрайних просторах Кубани. Вечером забурились на танцы три друга приятеля: он сам, Веселов и Чуев. Женька первый разглядел эту восхитительную сцену. За танцующей стеной веселящихся сопляков, у входа на дискотеку, сидела молодая женщина, и без всякого стеснения приложив к груди чмокающего спелёнатого малыша, смотрела на столичную молодежь. Звали её Валюха – она работала кем-то на кухне в столовой, во всем и со всеми она была безотказной. Немного блаженная, Валюха всегда имела много поклонников, один из которых появился рядом едва трое друзей подошли ближе. Невысокий пришибленный с виду мужичок, распалялся, что-то доказывая ей. Она как ни в чем не бывало продолжала улыбаться и кормить ребенка. Валюхин «кавалер» влепил ей пощечину и заорал: «Иди домой». Чуев выволок его в холл «поговорить», а на другой день оказалось, что он набил морду местному участковому милиционеру.
Мешая плавному течению воспоминаний, живой Чуев возник перед их столиком из серебристого мельтешения звездочек, а с ним вместе возникли две очаровашки Вика и Настя. Выводок стаканов с колой и литровый «Канадский клуб» оживили беседу. На девчонках одето ровно столько, сколько необходимо, чтобы напор горячей фантазии растопил лед любой пуританской ограниченности.
Дрюня, я тебе приватный танец заказал! - Женька, тыча пальцем в приятеля, что-то нашептал в ухо Насте, после чего она вспорхнула с дивана и потащила Сергея за собой за портьеру кабинета, убранство которого состояло из низкой кушетки заваленной чем-то имитирующим шкуру леопарда.
Танцевала она плохо, зато очарование молодости, жившее в ней, напоминавшее о несбыточном, притягивало как магнит. Дронов любовался ею, пытался рассказать о своей жизни, и наконец, выволок на свет нелепую фразу:
- Притворись, что ты меня любишь.
Настя поднялась и с наигранным разочарованием сообщила:
- Извини, время кончилось, можешь ещё потрогать, но нам пора…
- Сколько стоит танец?
- Две тысячи!
- Без проблем… не уходи, - а потом снова повторил, - притворись, что ты меня любишь.
«Притворись,
что меня ещё любишь…
Пожалуйста, притворись!
Ты завтра меня забудешь...
Я прозакладывал жизнь…
Я прозакладывал душу…
Я прозакладывал всё…
Прошу…
притворись, и слушай
сердца обратный отсчёт».
Притворялась она плохо. И в кабинете. И у шеста, когда они вернулись в зал. И в гостиничном номере, где они оказались под утро. «Притворись, что ты меня любишь» твердил Сергей всякий раз, когда ему казалось, что счастье, с которым он разминулся по жизни, всё-таки возможно, достаточно попросить, достаточно заказать в номер шампанское. Настя не хотела притворяться, она делала свою работу хорошо, по прейскуранту, а вы же знаете, как нас раздражают капризные клиенты. После очередного «притворись», она выпорхнула из-под одеяла, натянула джинсы, кофточку, шубку, и, убежала, сказав:
- Слушай уже девять, мне ребенка надо в сад вести, всё хорошо, приходи, ещё позажигаем… я у тебя на такси возьму?
Осиротевший бумажник лежал на тумбочке. Рядом на кровати распластался Дронов, уткнувшись головой в подушку.
Интересно где я и сколько это стоит?
Как зажигалка, ништяк? Ушла уже? - неожиданно гостиничный номер наполнился Чуевым, видимо Настя не захлопнула дверь, - а я к тебе с трофеями, вот Вика колготки забыла, муж её объявился по телефону, она фр-р-р… и улетела без них, хватит валяться! Эй, ты чего? Эй! Серый?!
Женька оставил на столе принесенную бутылку виски, рванулся к кровати, неожиданно испугавшись, что Сергей помер. Повернул его на бок и выслушал пьяный речитатив:
- Притворись, что ты меня любишь…
Потом он выудил из бара пару стаканов, набулькал в каждый из них на два пальца виски, и протянул один Дронову:
- Обойдешься!
А в это время Ольга, вернувшаяся от матери, последовательно обзванивала морги, больницы, и куда там еще звонят, если муж не ночует дома.
Они считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых — кинокритик и сценарист Сергей Добротворский и его юная жена Карина. Но счастливая романтическая история обернулась жестким триллером. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. В автобиографической книге "Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже" Карина Добротворская обращается к адресату, которого давно нет в живых, пытается договорить то, что еще ни разу не было сказано. Хотя книга написана в эпистолярном жанре, ее легко представить в виде захватывающего киноромана из жизни двух петербургских интеллектуалов, где в каждом кадре присутствует время.
Сергей Николаевич, главный редактор журнала "СНОБ".
А вот что о той же книге думает Дмитрий Ольшанский:
Питерская девушка - такая, знаете, интеллигентная еврейская девушка, со всеми положенными ей комплексами, - влюбляется в знатного местного кинокритика, умницу, таланта, блестящего лектора, в общем, эстета (приятно употребить это дикое слово).
Молодость, богемная семья, перестройка, Дэвид Линч и Годар в видеомагнитофоне.
Жить "как следует" они не умеют, да и не могут. Пьют водку "Зверь", закусывают "Сникерсом", одеваются кое-как, денег вечно не хватает, квартирка маленькая, дурная, "с криво положенной плиткой и клеенкой на столе".
Но, в стиле героев О"Генри, они об этом не думают, потому что счастливы.
Вроде бы счастливы.
А на самом деле внутри девушки живет маленький крокодил.
И чем дальше, тем больше этот крокодил, несмотря на всю любовь, недоволен своим положением.
Вроде бы ей и правда есть на что пожаловаться.
Он, если выпьет, делается агрессивен. Может быть, он даже дружит с наркотиками (хотя тогда она этого точно не знает). И, главное, с ним она никак не может родить.
А все-таки крокодил внутри нее недоволен не этим.
Самые пронзительные, самые драматические моменты, когда она осознает, что в их жизни что-то не так - это, например, когда она нашла отличную модельершу, но смогла купить у нее "только самое плохое и дешевое".
Или - когда он напился, познакомился на улице черт знает с кем, а этот черт знает кто потом разбил окно и украл у них из квартиры ценные вещи.
Телик импортный! Видяшник импортный! Из Америки с таким трудом везли!
И эта драма постепенно разбивает ее любовь.
А потом появляется другой мужчина.
Нет, не мужчина.
Появляется "хорошо отремонтированная квартира в Москве", "гран крю", "авокадо в холодильнике", "один подарок - дороже, чем наши зарплаты".
И все это может дать редактор отдела культуры буржуазной газеты "Коммерсант", который зарабатывает 2 тысячи долларов (середина девяностых, большие деньги!), а любимый кинокритик - нет, у него нет никакой авокады, и гран крю тоже нет, а только одни хорошие статьи, вредные привычки и сомнительное будущее.
И тогда девушка - точнее, уже не столько девушка, сколько крокодил, - заводит бурный роман с редактором отдела культуры.
Кинокритик что-то подозревает, но страдает молча, а иногда напивается и дерется, но потом просит прощения, и опять молчит.
Характерно, что "инициацией", вступительным таинством в новой любви - оказывается совместная с буржуазным редактором работа в газете "Не дай Бог", посвященной добровольно-принудительным выборам Ельцина.
От девушки требуется ловить пожилых артистов и пытать их на предмет того, какие плохие были коммунисты.
Один пожилой артист даже умирает на другой день после пропагандистской беседы, но дело сделано - и сердцем проголосовали, и деньги пришли, и любовь теперь такая, как надо, и можно, наконец, съехать в Москву - навстречу авокадо и большой карьере.
"Прошли годы".
Девушка - нет, извините, уже давно нет никакой девушки, - крокодил сделал свою большую карьеру, заработал все возможные деньги, бросил того редактора как давно устаревшую модель успеха, обзавелся квартирой в Париже "с окнами в пол" и молодым-красивым любовником ("в котором все-таки чего-то не хватает"), ест теперь устрицы и предпочитает ходить в те рестораны, которым еще не поставили мишленовских звезд, "но вот-вот поставят".
Ест крокодил свои устрицы и плачет крокодильими слезами.
Потому что тот кинокритик, которого тогда, давным-давно, бросили ввиду бесперспективности, - почти сразу после этого умер.
Страдал, звал назад, ждал, но не дождался и умер от передоза.
И крокодил переживает.
Он чувствует, что счастье-то осталось там, в Питере, в юности, в плохой квартирке "с клеенкой", и что лучше бы он не сидел в своем почти мишленовском ресторане этакой важной цацой, европейской гранд-дамой, - а тусовался на кухне со своим любимым.
И может даже показаться, что есть в этих терзаниях что-то похожее на раскаяние.
Похожее на осознание того факта, что человек и самого себя скормил крокодилу, и, что важнее, бросил ему в пасть своего любимого мужа, убил его, говоря прямо.
Но нет.
Крокодил не может раскаяться.
Крокодил просто нуждается в психотерапии, и книга, которую он пишет о своем покойном муже, и о сделанном когда-то выборе, - это просто способ избавиться от плохих воспоминаний, вытеснить их, проговорив вслух.
И все забыть - чтобы устрицы шли хорошо.
"И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, -- появление было последнее. Глухо всё, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее"