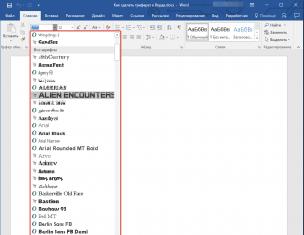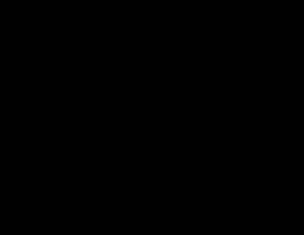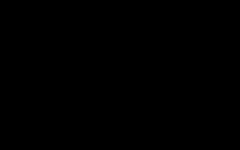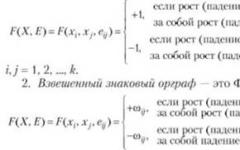СУДЕБНЫЕ РЕЧИ известных русских юристов
Издание третье, исправленное Государственное издательство ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА - 1958
I. Александров Петр Акимович
Александров Петр Акимович (1838--1893 гг.) -- один из виднейших представителей русского дореволюционного судебного красноречия, хотя сознательно он никогда не готовил себя к адвокатской деятельности, именно к тому виду деятельности, где более всего проявился его талант. По выражению его современников, "судьба заготовила ему блестящую карьеру" на чиновничьем поприще правовых учреждений, и лишь нежелание его подчинять свою волю неукоснительным велениям других помешало его "триумфальному восхождению по служебной лестнице".
П. А. Александров родился в Орловской губернии в семье мелкого священнослужителя. Незаметный пост отца не давал достаточных материальных средств к нормальному существованию семьи. Семья Александрова часто, терпела невзгоды и лишения. Все это, а также наблюдения Петра Акимовича за окружающей его жизнью наложили тяжелый отпечаток на склад его ума и образ мыслей. Л. Д. Ляховецкий вспоминал, что Александров "...сам любил говорить о неприглядных условиях своей прошлой жизни, наводившей его на размышления печального свойства. Невесела была жизнь его родителей, много терпевших от произвола сильных! В детские годы мальчик был свидетелем поругания человеческого достоинства его отца, покорно сносившего все оскорбления, сыпавшиеся на его голову. Впечатления эти глубоко запали в душу ребенка" {Л. Д. Ляховецкий, Характеристика известных русских судебных ораторов, СПб., 1897, стр. 5.}. Впечатления, эти, однако, не только запали в его душу, но и сохранились на всю его жизнь. Самостоятельность суждений и взглядов, непреклонность характера, твердость в убеждениях, воспитанные суровой жизнью и помешавшие его последовательному восхождению на служебном поприще, сослужили ему хорошую службу в качестве присяжного поверенного в рядах русских адвокатов.
Юридический факультет Петербургского университета П. А. Александров окончил в 1860 году, после чего он в течение 15 лет занимал различные должности по Министерству юстиции: товарищ прокурора Петербургского окружного суда, прокурор Псковского окружного суда, товарищ прокурора Петербургской судебной палаты и, наконец, товарищ оберпрокурора кассационного департамента Правительствующего Сената. В 1876 году Александров, после служебного конфликта, вызванного неодобрением начальства его заключения в суде по одному из дел, где он выступил в защиту свободы печати, вышел в отставку и в этом же году поступил в адвокатуру.
Как защитник Александров обратил на себя внимание выступлением, в известном политическом процессе "193-х". Дело слушалось 1877--78 г.г. в Петербургском окружном суде при закрытых дверях. В качестве защитников в процессе принимали участие лучшие силы Петербургской адвокатуры.
Отвечая на бестактную выходку обвинителя Желеховского. заявившего, что почти сто оправданных по этому делу обвиняемых были привлечены им для "составления фона" остальным подсудимым, Александров в своей речи "погрозил Желеховского потомством, которое прибьет его имя к позорному столбу гвоздем... и гвоздем острым!" {А. Ф. Кони, Избранные произведения, Госюриздат, 1956, стр. 532.}.
До этого малоизвестный как адвокат Александров привлек внимание общественности продуманной речью и умелой убедительной полемикой с прокурором.
Оценивая его речь на процессе "193-х", один из участников процесса писал: "Заключительные слова его образцовой речи среди дружного и согласованного хора голосов превосходной защиты прозвучали все же самыми чистыми и высокими нотами. Кто слышал эту речь, тот никогда ее не забудет".
Вскоре, вслед за этим делом, в Петербургском окружном суде слушалось дело по обвинению Веры Засулич в покушении на убийство Петербургского градоначальника Трепова. Речь, произнесенная Александровым в защиту Веры Засулич, принесла ему широкую известность не только в России, но и за рубежом.
"Подсудимая, -- вспоминает Л. Д. Ляховецкий о выступлении Александрова по делу Веры Засулич, -- избрала себе в защитники П. А. Александрова. Дивились тогда немало неудачному выбору. Петербургская адвокатура имела столько представителей с прославленными талантами, а для трудного дела избран был безвестный адвокат, бывший. чиновник, расставшийся со службой.
Шепот изумления раздался в судебной зале, когда в день разбора дела к скамье защитника приблизилась фигура Александрова. "Неужели-таки он?...".
П. А. Александров казался пигмеем, взявшимся за работу гиганта. Он погибнет, он оскандалится и погубит дело. Так думали и говорили многие, почти все. Вопреки ожиданиям, речь его сразу раскрыла колоссальный, могучий, боевой талант. Безвестный защитник из чиновников вышел из суда знаменитым, с печатью славы. Речь его, воспроизведенная на следующий день в газетах, сделала имя его известным всей читающей России. Талант получил всеобщее признание. Вчерашний пигмей превратился вдруг в великана. Одна речь создала этому человеку громкую репутацию, возвысила его, обнаружив всю мощь его дарования" {Л. Д. Ляховецкий, цит. соч. стр. 6--7; в связи с пожеланиями читателей эта речь Александрова независимо от того, что она опубликована в книге избранных произведений А. Ф. Кони (Госюриадат, 1956), печатается в настоящем Сборнике.}.
Однако было бы неправильным думать, что речь эта. принесла П. А. Александрову славу вследствие ее внешних эффектов. Напротив, она отличается умеренностью тонов и отсутствием излишних красок. В этой речи П. А. Александров блестяще показал, что не заранее обдуманное намерение Засулич является движущим мотивом совершенного преступления, а вся совокупность беззаконных и неправомерных действий генерала Трепова -- градоначальника Петербурга -- является истинной причиной содеянного. С большой силой показал Александров в речи по делу Веры Засулич, что в действительности не она должна занимать скамью подсудимых, а, наоборот, тот, кто в процессе занял сочувственную роль потерпевшего, фактически должен проходить по делу в качестве обвиняемого. Речь П. А. Александрова по данному делу, несомненно, в значительней степени подготовила оправдательный вердикт присяжных. В высоких же чиновничьих я правительственных кругах она была воспринята с исключительным неодобрением. Это, тем не менее, не могло поколебать Александрова как мужественного и стойкого в своих убеждениях судебного оратора.
С неменьшей силой проявился ораторский талант Петра Акимовича в его выступлении по делу Сарры Модебадзе.
Осуществляя защиту четырех совершенно невиновных людей, понимая тот большой общественный резонанс, какой имел этот процесс, и свою роль в этом деле, он защитительной речи придал большое общественное звучание. Ов правильно оценил социальные корни и питательную среду этого грязного, Позорного дела, смело поднял голос в защиту невиновных, принесенных в жертву реакционным идеям преследующим цель разжигания национальной розни.
П. А. Александров изучил материал, относящийся к рассматриваемому делу, Показал тонкое знание специальных вопросов, разбираемых на суде, успешно опровергал выводы экспертизы, на которых обосновывалось обвинение.
Александров понимал, что к его голосу прислушиваются широкие передовые слои России. Он смело вскрывал ту атмосферу, в которой создавалось это дело. В начале своей речи Александров говорит, что настоящий процесс "... желает знать вся Россия, о нем будет судить русское общественное мнение". Александров подчеркиваем, что речь предназначена не только для суда, но и для тех, "кто наглою клеветою
«Спас жизнь человека – спас целый мир», говорится в Танахе. Профессия адвоката относится к профессиям-спасителям человеческих жизней, а значит победная адвокатская речь способна спасти целый мир. Адвокат Яшар Якоби, включенный в рейтинг лучших адвокатов Израиля по версии 10 канала, выбрал для нас самые сильные адвокатские речи, перевернувшие ход уголовного процесса и приведшие к оправданию подсудимого.
Логическая ловушка адвоката Плевако
Одними из самых блестящих образцов адвокатского ораторского искусства несомненно являются речи знаменитого российского адвоката Федора Никифоровича Плевако. Непревзойденный мастер парадоксального мышления, умеющий не только сам взглянуть на вещи с неожиданной стороны, но и показать это другим, Плевако спас немало судеб, казалось бы, элементарными трюками, простыми, как все гениальное. Речи Плевако по сей день изучаются студентами юридических вузов как вершина искусства строить защитную речь. Среди канонических образцов много трагикомических случаев, за каждым из которых – чья-то жизнь и судьба.
Так, в одном из дел об якобы изнасиловании Плевако вывел «потерпевшую» на чистую воду простой логической конструкцией. Обвиняющая утверждала, что обвиняемый силой затащил ее в гостиничный номер. Обвиняемый отрицал и утверждал, что все было по обоюдному согласию. Свидетелей нет, слово против слова. И вот на сцену выходит Плевако и обращается к присяжным со следующей речью: «Господа присяжные! Если вы решите присудить моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть стоимость стирки простыней, которые истица запачкала своими туфлями». Разгневанная истица вскакивает и кричит: «Неправда! Туфли я сняла!». Грянувший в зале хохот был оправданием подзащитному Плевако – с него сняли все обвинения.
«Краткость — сестра таланта!» — принцип адвоката Кони
Анатолий Федорович Кони — еще одно имя, вписанное золотыми буквами в историю мировой адвокатуры. Кроме успешной карьеры на адвокатском поприще, он оставил в наследие потомкам такие блестящие труды, как книги «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», яркие воспоминания о писателях, с которыми он дружил. Кони привлекали к самым громким политическим процессам того времени. Им одержаны победы в процессах, не совсем однозначных с точки зрения нашего времени, как, например, оправдательный приговор по делу террористки Веры Засулич.
Одна из его впечатляющих речей связана с судом над мальчиком-гимназистом, ударившего ножом своего одноклассника. Причиной этого отчаянного поступка была ежедневная травля со стороны одноклассника. Обвиняемый был горбат от природы, а пострадавший соученик каждый день на протяжении нескольких лет приветствовал его издевательской фразой: «Горбун!». Как свидетельствует история, самую эффектную речь в своей адвокатской карьере Кони построил так. При входе в зал суда он попривествовал собравшихся: «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!». «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» — ответили ему. Кони, словно заевшая пластинка, еще раз повторил – слово в слово – свое приветствие. Ему вновь ответили, но уже с долей недоумения. Так повторялось еще несколько минут, пока судьи и заседатели не взорвались от ярости, даже потребовали вывести «этого сумашедшего» из зала суда. На что Кони невозмутимо парировал: «А ведь этого всего тридцать семь раз! А моего подзащитного травили так несколько лет». Был вынесен оправдательный приговор.
Эмиль Золя: речь писателя изменила дело Дрейфуса
«Кровавые наветы», огульные обвинения не раз на протяжении веков преследовали еврейский народ и его отдельных представителей. Одно из самых громких исторических дел в этом ряду – дело Дрейфуса, наделавшее много шума на рубеже XIX-XX веков и оставившее по себе громкий общественный резонанс. Альфред Дрейфус, офицер французского Генерального штаба, еврей родом из Эльзаса, на тот момент территориально относящегося к Германии, был обвинен в шпионаже в пользу Германии, карьера его была сломана, сам он брошен в тюрьму, а затем приговорен к пожизненной ссылке на основании фальшивых документов. Это сфабрикованное дело, имевшее антисемитский подтекст, сыграло огромную роль в европейской истории и раскололо общество на два лагеря.
Одним из самых ярких эпизодов этой истории является знаменитое открытое письмо «J’accuse)Я обвиняю(» маститого писателя Эмиля Золя к президенту Французской республики Феликсу Фору, в котором мастер слова решительно утверждал, что дело сфабриковано, а улики – фальшивые. Письмо Золя, опубликованное в ежедневной газете «L’Aurore» , произвело во Франции и в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Оно обвиняло французское правительство в антисемитизме и противозаконном заключении по национальному признаку. Золя указывал на предвзятость военного суда и на отсутствие серьёзных улик. В результате Золя сам подвергся преследованиям «за клевету» и даже вынужден был бежать в Англию, откуда он вернулся на родину только после ареста действительно главных фигурантов и оправдания Дрейфуса. Статья Золя является ярким доказательством того влияния, которое интеллектуальная элита способна оказать на власть предержащих.
Дервиз О. В. Речь в защиту ВасильевойТоварищи судьи!
Моей подзащитной Васильевой предъявлено обвинение в совершении весьма тяжкого преступления - причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Закон предусматривает наказание за совершение таких действий в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Если добавить к этому, что покойный Волков - отец подсудимой, то обвинение Васильевой становится еще более страшным.
Именно поэтому задача защиты по данному делу трудна и ответственна, ибо ни в законе, ни в нашем нравственном чувстве нет и не может быть оправдания для отцеубийцы.
Однако я исполняю сегодня свой профессиональный долг с глубоким убеждением в правильности моей правовой и моральной оценки действий Васильевой. Защита не согласна с предложенной обвинением юридической квалификацией совершенного ею преступления.
Чтобы вы, товарищи судьи, могли правильно оценить действия моей подзащитной и назначить справедливое наказание, необходимо тщательно и непредвзято проанализировать все обстоятельства дела, проследить развитие событий в семье Васильевой, приведших 11 февраля к трагической развязке. Материалы дела дают нам возможность сделать это с достаточной полнотой.
Мы с вами выслушали показания подсудимой, рассмотрели заключения экспертиз, характеристики и другие документы. Сухое и лаконичное изложение событий в обвинительном заключении дополнилось живыми и непосредственными впечатлениями очевидцев, людей, повседневно соприкасавшихся с семьей Волкова. Перед нами возникла чрезвычайно яркая картина происшедшего.
Зоя Васильева - молодая тридцатилетняя женщина - была брошена мужем и год тому назад приехала с трехлетним сыном в дом к отцу. Она поступила на работу санитаркой в больницу, помогала мачехе вести хозяйство, воспитывала сына. Свой заработок Зоя вкладывала в общий семейный бюджет.
Мачеха хорошо относилась к ней, жалела ее. Все было бы нормально в их жизни, если бы не отношение отца. Он был недоволен пребыванием дочери в его доме, считал ее нахлебницей. Часто он упрекал Зою в том, что она не сумела «удержать» мужа. Не радовался Волков и внуку, никогда не ласкал его, был с ним хмур и неприветлив.
Волков злоупотреблял спиртным, часто являлся домой пьяный и затевал скандалы с женой и дочерью. Он придирался к любому пустяку, требовал полного подчинения себе как «хозяину».
Вы хорошо знаете, товарищи судьи, какое огромное социальное зло алкоголизм. Большинство уголовных дел, которые вы здесь рассматриваете, так или иначе возникли на почве пьянства. Многие разводы, выселения из-за невозможного поведения в квартирах, прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины на работе, мелкое хулиганство - вот что порождает алкоголь.
Из скольких семей ушло счастье, сколько детей лишились отцов, сколько людей потеряли человеческий облик из-за неумеренного употребления спиртного.
Я берусь утверждать, что и сегодняшнее дело возникло на той же ядовитой почве, только подсудимая и потерпевший поменялись местами. Именно поведение покойного Волкова создало ненормальную обстановку в семье, породило то психологическое напряжение, в состоянии которого ежедневно находились Васильева и ее мачеха. Они жили в постоянном страхе, ожидании того, что должно случиться что-то непоправимое. Часто бывало, что, желая оградить себя от пьяных выходок Волкова, женщины с ребенком уходили из дома, ночевали у соседей. Им было хорошо известно, что лучше не попадаться Волкову под горячую руку. Не раз и не два им приходилось стыдливо скрывать от сослуживцев и соседей полученные синяки. А ведь иногда дело доходило и до более серьезных вещей - Волков брался за топор и лопату… Женщины терпели - все-таки Волков - муж, все-таки отец. Но в них росло чувство отчаяния, а это чувство опасное - оно не всегда бессильно, иногда оно заставляет браться за оружие!
Трагедия, происшедшая 11 февраля, была подготовлена поведением Волкова в течение длительного времени. Если бы он вел себя по-другому, вероятно, реакция Васильевой была бы не такой острой. Она боялась отца, знала, что от него можно ждать чего угодно, была психологически подготовлена к насилию. Насилие породило насилие!
Вечером в этот день Волков пришел домой в состоянии сильного опьянения. Он затеял скандал с женой и дочерью, занимавшимися на кухне хозяйственными делами. Он высказал недовольство тем, что жена готовила корм для скотины, а на него не обращала внимания. Криком и руганью он сам взвинчивал себя, стал бросать на пол разные предметы. Жена сказала Волкову, что он пьян, мешает им заниматься делом, пусть идет в комнату и ложится. Ах, он, хозяин, мешает, ну, тогда держись… Волков схватил с плиты ведерный бидон с кипятком. К счастью, жене удалось отскочить, и на ее лицо и руки попали только брызги кипятка. От боли она закричала. Бидон остался в руках у Волкова.
Васильева не знала, осталась ли еще вода в бидоне, не знала, войдет ли на кухню привлеченный шумом и криком ее маленький сын. Она видела бидон в руках отца, она слышала крик ошпаренной мачехи, она знала, что отец может продолжать буйствовать. Ее охватил страх за своих близких, за себя. Она должна была защищаться, защищать других. Она, по ее собственным словам, не помнила себя.
Вот в каком состоянии находилась Васильева, когда схватила стоявшую у плиты кочергу и нанесла ей отцу два удара по голове.
По существу, товарищи судьи, все рассказанное мною сейчас о событиях, приведших Васильеву к совершению преступления, не отрицает и представитель государственного обвинения. Вы помните, что, обосновывая свою просьбу об определении подсудимой минимального наказания по части второй ст. 108-й УК РСФСР - пять лет лишения свободы, говоря о смягчающих ответственность обстоятельствах, прокурор ссылается на эти же факты.
Обвинение считает, говорил вам прокурор, что своим поведением покойный Волков убил в дочери естественное чувство любви и лишился ее уважения. Но эти чувства, полагает обвинитель, вытеснила ненависть, которая только ждала удобного момента, чтобы открыто проявиться, которая, по его образному выражению, «шла рука об руку с местью».
Из этого делается вывод, что Васильева подняла руку на отца с радостью, что представился случай. Не было якобы реальной угрозы жизни и здоровью подсудимой, ее близким, поскольку Волков сразу выплеснул весь кипяток и стал после этого вполне безопасен. Его не бить надо было, а успокаивать, уговаривать.
Во всяком случае, утверждает обвинитель, если еще можно как-то объяснить нанесение первого удара кочергой, то уж во втором не было никакой необходимости. Именно этот второй удар свидетельствует об умысле Васильевой.
Я уверен, товарищи судьи, что говорить так - значит не понимать психологического состояния подсудимой в момент нанесения ударов, более того, значит не понимать психологического механизма внезапного возникновения сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.
Да, вопрос о возникновении такого состояния, именуемого медицинской наукой физиологическим аффектом, один из сложнейших в теории и практике уголовного права, здесь возможны ошибки. И я полагаю, что прокурор призывает вас совершить ошибку, закрыть глаза на явные признаки аффективного состояния Васильевой.
Обвинение утверждает, что Волков сразу выплеснул весь кипяток и не представлял поэтому больше опасности для находившихся на кухне женщин. Этим обосновывается вывод, что Васильева действовала из мести, что необходимости в защите не было. С этим невозможно согласиться. Я допускаю, что, испугавшись содеянного им, испугавшись крика жены, покойный прекратил бы буйство. Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Но могло быть и по-другому, он вполне мог продолжать свои действия, как неоднократно это делал во время пьяных дебошей. Для этого были все возможности - на кухне находилось много предметов, подходящих вполне для учинения расправы над женщинами. В руках у него был горячий бидон - тоже достаточно грозное оружие, а то, что он уже успел сделать, давало основания считать, что пьяному буйству нет предела. Именно так думала Васильева, и ее нельзя не понять. Не могла она в то время знать, что в бидоне не осталось больше кипятка.
Перед вами, товарищи судьи, столкнулись две точки зрения на события 11 февраля, две оценки их. От того, какую из этих оценок вы признаете правильной, зависит юридическая квалификация совершенного Васильевой преступления. Если вы согласитесь с обвинением, что Васильева действовала умышленно, значит, предложенная органами предварительного следствия квалификация содеянного по части второй ст. 108-й УК РСФСР правильна.
Я же убежден в истинности своей точки зрения и прошу вас согласиться с ней. Я считаю, что поведение Волкова на протяжении всех последних месяцев, его издевательства и насилия над домочадцами подготовили психику Зои Васильевой к происшедшему вечером 11-го февраля взрыву. Испытанные ею в тот день страх, гнев и возмущение действиями отца вызвали сильнейший психологический «разряд» - аффект.
Нельзя, как это делает обвинение, искусственно разрывать действия, следовавшие одно за другим практически мгновенно; нельзя объяснять нанесение первого удара страхом и волнением, а второй объявлять умышленным. Находясь в состоянии сильного душевного волнения, человек не может точно соразмерить свои поступки с объективной необходимостью. Именно поэтому наш закон выделяет преступления, совершенные в состоянии аффекта, и предусматривает за них значительно более мягкие наказания, чем за совершенные умышленно. Содеянное Васильевой подлежит квалификации по ст. 110-й УК РСФСР, устанавливающей ответственность за нанесение тяжкого телесного повреждения в состоянии сильного душевного волнения, внезапно возникшего и вызванного насилием или оскорблением со стороны потерпевшего.
Наш уголовный закон, товарищи судьи, будучи выражением социалистического гуманизма, требует от вас учета всех смягчающих обстоятельств. В этом деле я вижу целый ряд таких обстоятельств.
Статья 38-я УК РСФСР предусматривает в качестве одного из наиболее существенных смягчающих ответственность виновного обстоятельств совершение преступления при защите от общественно опасного посягательства, хотя и с превышением пределов необходимой обороны. Нет сомнения, что в данном случае налицо это смягчающее обстоятельство. Действия Волкова были общественно опасны, защищаться было необходимо.
Огромное значение для определения степени общественной опасности лица, совершившего преступление, имеет его поведение во время следствия и суда, его отношение к содеянному. Изворачивается человек, лжет, пытается уйти от наказания - одно, раскаивается, правдиво обо всем рассказывает - совсем другое. Это всегда учитывается судом.
Я хочу обратить внимание на предельную искренность моей подзащитной, ее чистосердечное раскаяние и готовность понести наказание за совершенное преступление. Вы, конечно, помните, что мачеха Васильевой, желая спасти ее от ответственности, показала на первом допросе неправду. Она рассказала, что муж ее в пьяном виде упал на плиту и разбил голову об ее угол. Васильева не пыталась воспользоваться этой ложью - она с самого начала говорила только правду, не пыталась ничего скрыть. Подсудимая тяжело переживает случившееся, глубоко подавлена совершенным ею преступлением. Ей очень жалко отца, но на вопрос, могла бы она вновь поступить так же, если бы все повторилось, она откровенно отвечает, что, вероятно, могла бы. Такая правдивость подкупает. Остается только пожелать, чтобы жизнь не ставила больше мою подзащитную в такое тяжелое положение.
Вы тщательно исследовали сегодня, товарищи судьи, жизненный путь Васильевой. Мало было в нем радостных событий, жизнь не баловала ее. Она выросла в трудных условиях военных и первых послевоенных лет, не получила достаточного образования, обманулась в муже, не видела сочувствия со стороны единственного близкого человека - отца. Но она не озлобилась, осталась простой и скромной женщиной, о которой никто не мог сказать ни одного худого слова. Васильева никогда в жизни не преступала закон. В характеристик из больницы отмечается, что работала Васильева исключительно добросовестно, ровно и ласково относилась к больным. Соседи говорят о ней как о труженице, приветливой и спокойной женщине, хорошей матери. Какое потрясение должна была испытать она, как должна была бояться отца, чтобы осмелиться поднять на него руку!
Есть в событиях этого дела еще одно обстоятельство, о котором я не имею права умолчать. Тягостное, неправдоподобное, но, увы, имевшее место. Я имею в виду отношение медицинских работников станции «скорой помощи» к выполнению своего профессионального долга.
Вечером 11 февраля к Волкову вызвали «скорую помощь». Приезжала машина, врач осмотрел раненого. Да, он был пьян, да, он ругал медиков и мешал им исследовать повреждения, утверждая, что ничего с ним особенного не случилось. Все это так… но проглядеть проникающую рану костей черепа врач не имел права. Не имел права оставлять без помощи тяжело раненного человека, не имел права предлагать ему самому явиться утром на осмотр. Врач ввел в заблуждение родственников Волкова, создав у них впечатление, что потерпевший действительно никаких опасных повреждений не получил.
Судебно-медицинская экспертиза, отвечая на вопрос о шансах на жизнь Волкова при условии оказания ему своевременной помощи, ответила, что, хотя благополучный исход при травмах такого типа гарантировать нельзя, были все основания надеяться на выздоровление потерпевшего.
Таким образом, ответственность за трагический исход ложится в определенной степени и на представителя самой гуманной в мире профессии! Я считаю, что необходимо вынести частное определение по этому вопросу, мимо этого пройти нельзя.
Заканчивая свою речь, я хочу выразить уверенность в справедливости того приговора, который вы вынесете моей подзащитной. Она должна быть на свободе, она должна заботиться о своем малолетнем сыне, воспитывать его. Мера ее вины не столь значительна, чтобы была необходимость направлять ее в исправительную колонию. Я прошу вас, товарищи судьи, определить Васильевой по ст. 110-й УК РСФСР наказание, не связанное с лишением свободы.
Кан Н.П. Речь в защиту Далмацкого
Товарищи судьи!
Прокурор и два общественных обвинителя единодушны в требовании смертной казни для Ивана Далмацкого. Ее добивается и потерпевший - отец погибшего Игоря Иванова. Об этом же просят в своих решениях собрания общественности. Видите, сколь велик накал страстей, разгоревшихся вокруг дела, по которому ваше решение уже не за горами. А тут еще и газетная корреспонденция, к сожалению, очень далекая от объективного освещения отдельных фактов и в целом всего события смерти Иванова.
Я сознательно делаю упор на эмоциональную сторону обстановки, в которой приходится осуществлять защиту Далмацкого. Житейски она может быть понята. Погиб человек, едва начавший сознательную жизнь, погиб нелепо. Неудивительно, что все, кто хорошо знал Игоря, больно переживают утрату и требуют возмездия. «Смерть за смерть», - сказал один из уважаемых обвинителей. Но ведь этот клич не новый. Он более чем старый и более чем непригодный для правосудия. Лучшим тому доказательством служит наш Уголовный кодекс, предусматривающий за убийства самые разнообразные, иногда мягкие виды наказания. Правда, Кодекс допускает и смертную казнь, но как исключительную меру наказания, когда речь идет об умышленном убийстве при так называемых отягчающих обстоятельствах. Установлено ли отягчающее обстоятельство в действиях Далмацкого? Далмацкому действительно предъявлено обвинение в убийстве Иванова из хулиганских побуждений, то есть при отягчающих обстоятельствах. Но он, полностью признавая, что причинил смерть Иванову, решительно протестует против приписанных ему хулиганских мотивов и умысла на убийство. Как у следователя, так и в суде он неизменно утверждал, что ранил Иванова, защищаясь от нападения. В сущности, это и есть главный, если не единственный вопрос, ответ на который решит судьбу Далмацкого. Разрешите мне сжато воспроизвести детали дела, как они вытекают из следственного производства и из судебного разбирательства.
1 мая 1965 года в Петродворце после праздничной демонстрации Игорь Иванов со своим приятелем Александром Еременко, обвиняемым по этому делу в злостном хулиганстве, и с другими молодыми людьми собрались на квартире Семашко, где пили коньяк. В пирушке участвовали и девушки - Ангелина Красовская и другие. Около 20 часов, как записано в обвинительном заключении, «указанная компания покинула квартиру Семашко». Игорь Иванов, Еременко, или, как его называли корреспонденты, «Саша», и Ангелина Красовская направились к Ивановым, где Игорь сменил свою ученическую форму на праздничную одежду. Затем все трое возвратились на улицу и пошли на вокзал, рассчитывая встретить там остальных гостей Семашко. Побродив по перрону, Еременко, Иванов и Красовская вошли в четвертый вагон электропоезда № 606, прибывшего из Ораниенбаума, и двинулись вдоль вагона к переднему тамбуру. Все происшедшее дальше имеет столь важное значение для истины, что я попрошу позволения во имя точности воспользоваться текстом обвинительного заключения. Вот что там написано:
«В переднем по ходу поезда тамбуре этого же вагона ехали братья Далмацкие, которые сели в электропоезд в 22 часа 23 минуты на станции Старый Петергоф, возвращаясь в Ленинград.
Еременко А.В., Красовская А.Р. и Иванов И.Н. направились в передние вагоны. Еременко вошел в передний тамбур, где находились браться Далмацкие. Красовская шла вслед за Еременко по вагону, а Иванов И.Н. остановился и вступил в разговор с сидящими в вагоне слева по ходу поезда незнакомыми гражданами Павловым И.П., Пироженко А.Г., Даниловым В.П., Сидоренко Т.В., Михайловым Т.П.
Как показал обвиняемый Еременко, когда он вошел в указанный тамбур вагона, стоящий слева по ходу поезда Далмацкий В.Е. взял его за левую руку. Еременко из хулиганских побуждений нанес сильный удар кулаком в лицо Далмацкому В.Е., хотя оснований для нанесения удара не было. Далмацкий в результате этого удара упал на пол, из носа у него пошла кровь. Вошедшая в тамбур Красовская А.Р., увидев, что Далмацкий И.Е. помогает подняться с пола Далмацкому В.Е., у которого было окровавлено лицо, а Еременко, стоя в угрожающей позе около двери, ведущей на переходную площадку переднего по ходу поезда вагона, выражается нецензурными словами в адрес Далмацких, водворила разбушевавшегося хулигана Еременко в вагон, попросила Далмацких не ссориться, дала свой носовой платок Далмацкому В.Е. вытереть с лица кровь и вошла в вагон, направившись к Иванову И.Н. и Еременко А.В., стоявшим около указанной компании».
Прервем на минуту чтение этого документа, пусть не очень литературно, но предельно ясно излагающего с позиций обвинения завязку гибели Игоря Иванова. Нашли ли вы здесь хоть ничтожные признаки хулиганского поведения Ивана Далмацкого? Искать же их абсолютно необходимо. Ведь речь идет о смертной казни человека, обвиняемого в убийстве именно из хулиганских, а не из других побуждений. Искать их необходимо и потому, что антиобщественное лицо хулигана и мотивы его поведения проявляются не только в предательском ударе ножом, но и в предшествующих ему многих других волевых актах, по которым мы можем судить о склонности личности к грубому нарушению общественного порядка и к проявлению явного неуважения к обществу, без чего нет хулиганских мотивов и самого хулиганства. Вернемся к фактам.
Следователь установил, что разбушевавшимся хулиганом был вовсе не Иван Далмацкий, а товарищ погибшего Иванова - ныне подсудимый - Александр Еременко. Это он без всяких поводов со стороны 17-летнего Владимира Далмацкого, брата подсудимого, исколотил Владимира, свалил его на пол и разбил ему лицо в кровь. Это он, Еременко, стоя в угрожающей позе, то есть готовый возобновить нападение, оскорблял братьев Далмацких отборной нецензурной бранью. Можно ли придумать лучший повод для старшего Далмацкого, если бы он был хулиганом, продолжать драку? Но Иван и не помышлял ни о мести за избитого брата, ни о ссоре с кем-либо. Как пишет следователь, он лишь помог подняться сбитому с ног брату и больше решительно ничего не делал. Хулиган редко обходится без площадной брани, без нецензурных слов, что в данном частном случае и проявилось в поведении Еременко, но отнюдь не Далмацкого. Ведь, как говорила Красовская, Еременко вылил на Далмацких ушат сквернословия, а Иван и рта не раскрыл.
Вспомните другие показания той же Красовской. Она утверждает, что со стороны Далмацких не было проявлено ничего плохого. Ни оскорбительных, ни тем более нецензурных слов никто из них не произнес. Больше того, допрошенные Павлов и другие пассажиры вагона говорили, что Далмацкие вели себя в тамбуре столь спокойно, что они, пассажиры, вообще не подозревали о пребывании там кого-либо. Итак, Иван Далмацкий с братом Владимиром тихо* и мирно возвращались домой в Ленинград, не подозревая, какая страшная беда нависла над ними. Однако вернемся опять для беспристрастности к обвинительному заключению, тем более что оно - исходная база для выводов моих оппонентов.
Мы остановились на третьей странице заключения, где повествуется о том, как Красовская выдворила из тамбура в вагон исступленного Еременко и сама вернулась туда же к своим спутникам. Читаем дальше: «Далмацкий И.Е., имея умысел на убийство, достал из кармана складной нож, раскрыл его и стал угрожающе показывать через смотровое стекло раздвижной двери, что увидела гражданка Красовская. В это же время Иванов и Еременко направились, как видно из показаний последнего, в передние вагоны с целью отыскать своих знакомых. Подошедшая навстречу им Красовская предупредила их о ноже, сказав, чтобы они туда не ходили. Но, несмотря на предупреждение Красовской, Еременко и Иванов направились в тамбур вагона, где находились Далмацкие. В тот момент, когда Иванов открыл правую по ходу поезда раздвижную дверь и хотел войти в тамбур, находившийся там Далмацкий Иван, осуществляя свой гнусный замысел и видя перед собой человека, которого впервые встретил, совершенно беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес смертельный удар ножом в голову Иванову».
Вот вся завязка и горькая развязка в официальном изложении. Позвольте спросить, из каких источников обвинительная власть почерпнула столь неожиданный тезис о гнусном умысле и беспричинном, а значит, по понятию следователя, хулиганском ударе ножом? Таких источников вы нигде не найдете. Когда-то действительно хулиганские проявления определялись как беспричинные действия. Более глубокого заблуждения трудно найти, ибо ни в природе, ни в обществе беспричинных явлений не существует. Иное дело, что мы не всегда способны понять и проследить причинные связи. Но хулиганство, как и любое явление, всегда детерминировано определенными факторами. И, пожалуй, главный из них - это антиобщественная установка личности, формирующаяся подчас задолго до своего объективного проявления. Имеются ли в деле хотя бы малейшие намеки на нечто подобное? Все 36 лет жизни Ивана Далмацкого не были омрачены ничем отрицательным.
Следствием было сделано все, чтобы собрать достоверные сведения о прошлой жизни Далмацкого, в том числе и компрометирующие характеристики. К счастью, их не оказалось. Допрошены почти десяток людей из числа руководителей, сослуживцев и близких знакомых подсудимого. Все они отозвались о Далмацком как об уравновешенном, трудолюбивом и порядочном человеке, как о хорошем семьянине. Один из общественных обвинителей, дабы хоть как-то уязвить этого человека, упрекнул его вступлением во второй брак. Упрек несерьезный, а в данном случае просто неуместный, так как показано, что Далмацкий разошелся с первой женой по обоюдному желанию.
И даже государственный обвинитель, требуя для Далмацкого исключительного наказания - смертной казни, не мог не признать вслед за обвинительным заключением, что Далмацкий в быту и на работе характеризуется с самой положительной стороны. Но тогда защита с еще большей энергией должна искать объяснения ошибочному обвинению в убийстве по хулиганским мотивам. Если поиск вести в соответствии с требованиями процессуальных законов, в плоскости разбора судебных доказательств, то обвинение выглядит беспочвенным, так как ни следователем, ни при судебном разбирательстве не добыто ни одного доказательственного факта, который прямо или косвенно позволял бы думать, что Далмацкий смертельно ранил Игоря Иванова, желая из хулиганских побуждений лишить его жизни. Откуда взялись все эти суждения о том, что Далмацкий вдруг замыслил убийство и оказался во власти гнусного замысла? Надуманные слова, к тому же опровергнутые самим следователем в его конструкции обвинения. Все, что мы читали в обвинительном заключении, ярко рисует хулиганское поведение не Далмацкого, а совсем другого человека. Поэтому я смею заявить, что по формуле, утвержденной прокуратурой, Далмацкий не виновен, что обвинение его в убийстве из хулиганских побуждений вызвано следственной ошибкой, которая должна быть исправлена здесь в суде вашим приговором.
Должен ли защитник вдаваться в исследование природы следственной ошибки или может ограничиться лишь ее декларацией? Вероятно, бездоказательные заявления адвоката в любом случае не нужны правосудию. Когда же встает вопрос об ошибке следствия, то есть о ложном восприятии следователем действительности, которое, не будучи раскрытым до конца, может привести к трудно поправимым, а иногда и к необратимо гибельным результатам, адвокат не выполнил бы своей профессиональной и общественной задачи, если бы ограничился констатацией ошибки, не объяснив ее происхождения. Как нельзя считать до конца исследованным преступление, не познав его причин, так невозможно оценить и ложность суждения, не вникнув в его внутренние и внешние истоки. Остановлюсь только на одной стороне вопроса, особенно важной и достаточной для объяснения ошибочного юридического диагноза, поставленного следователем. Я начал защитительную речь с указания на накал страстей, на особую эмоциональную атмосферу, в которой велось предварительное следствие. Не успело оно возникнуть, как в прокуратуру по ступил протест собрания жителей городка, где живет отец Игоря Иванова, с требованиями смерти для убийцы. Подобные же требования изложены в документах от имени учащихся. Разве это не давление на следователя, и даже не косвенное, а прямое? Общественное мнение - могучая сила. Но при этом необходимо, по меньшей мере, одно обязательное условие - общественность должна быть объективно проинформирована относительно того, о чем она берется судить. В противном случае неизбежны любые недоразумения. Это исключительно важно помнить, когда расследуется уголовное дело. Закон требует справедливого наказания преступника. Закон не допускает осуждения невиновного. Виновный же подлежит наказанию только за то, что он сделал в действительности.
Для избежания ошибочного осуждения действующим правом и наукой установлены твердые принципы, соблюдение которых должно гарантировать следствие и суд от ложных выводов. Мы утверждаем презумпцию невиновности, в силу которой только суд вправе высказывать в окончательном виде мнение о виновности подсудимого и о заслуженном им наказании. Законом установлены требования о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела. А это означает, что даже тогда, когда обвиняемому угрожает не только казнь, но и незначительное наказание без лишения свободы, то и в таких случаях должно быть тщательно исследовано все, что говорит не только против него, но и опровергает обвинение. Но разве те, кто голосовал за смерть Далмацкого, знали что-либо об обстоятельствах убийства? Конечно, ничего не знали, равно как не знал всего и следователь, не говоря уже о том, что не сказал своего слова суд. Получилось как бы два параллельных расследования. Одно вне-процессуальное, проведенное общими собраниями, не располагавшими не только доказательствами, но хотя бы предварительной информацией органов расследования. Другое - законное расследование, но завершенное под давлением первого. Все это, несомненно, вызвало ненужную нервозность в работе следователя, а она несовместима с объективностью и чревата ошибками.
Закон достаточно широко предусматривает участие общественности в борьбе с преступностью, и думается, что расширение установленных им пределов не принесет пользы правосудию. Я уже упоминал о корреспонденциях. Статья «Можно ли ударить хулигана?» суду известна. В ней много искажений. Авторы вопреки тому, что выявлено следователем, берут под защиту Еременко и, не зная дела, утверждают о наличии хулиганского мотива убийства. Они допускают нападки на следователя и прокуратуру. Но тогда зачем же гласный суд? Полагаю, что авторы корреспонденции внесли немало сумятицы в формирование общественного мнения. А этого также не должно быть. Судебная хроника - хорошее средство расширения гласности правосудия, но и она не должна вмешиваться в работу следователя и юстиции. Возможно, мне возразят, что следователь не связан мнением собраний и позицией корреспондентов. Да, конечно, один не связан, а другой возьмет и поддастся искушению. Кажется, что в деле Далмацкого, как то ни прискорбно, случилось последнее. В результате же без достаточных, точнее, без всяких доказательств, предъявлено обвинение в преступлении, за которое может быть применена смертная казнь.
Было бы соблазнительно на этом и закончить защиту с просьбой оправдать Далмацкого по п. «б» ст. 102 УК РСФСР. К сожалению, по такому пути пойти нельзя. Ведь Игорь Иванов все же убит, и погиб он от руки Ивана Далмацкого. Поэтому защитник не вправе уклониться от исследования причинной и виновной связей в несчастии, постигшем семью Ивановых.
Далмацкий уверяет, что когда, подняв избитого брата, он увидел, что обидчик возвращается снова, и уже не один, а в компании с другим парнем, то им овладел ужас. Выхватив карманный складной нож, он с криком «не подходи» размахнулся и в слепом страхе ранил в голову Игоря. Похоже ли это на правду? Не только похоже, но, наверное, так и было. Хотя в суд вызвано свыше 30 свидетелей, но мотивы убийства могут прояснить лишь четыре человека: сам Иван Далмацкий, его партнер по скамье подсудимых Еременко, потерпевший Владимир Далмацкий и свидетель Ангелина Красовская - добрая знакомая Еременко и Игоря.
Показания Ивана Далмацкого я уже приводил. Он настаивает на состоянии необходимой обороны. Соответствует ли это истине? Была ли у Ивана необходимость защищаться? Не было ли здесь хотя бы так называемой мнимой обороны, то есть обороны без реальной опасности? Это также имеет существенное значение, поскольку убийство и при мнимой обороне исключает квалификацию по п. «б» ст. 102 УК. Решение вопроса об обороне невозможно без ответа на вопрос о нападении. Версия Ивана Далмацкого полностью объективно подтверждена. Следователем, как видно из цитированного мною обвинительного заключения, установлено, что братья Далмацкие подвергались неспровоцированному нападению Саши Еременко - молодого боксера первого разряда. Правда, Еременко утверждает, что Владимир Далмацкий взял его за левую руку. Владимир говорит, что он не дотрагивался ни до левой, ни до правой руки. На чьей же стороне правда? Ну, хорошо, пусть Владимир и взял Сашу за руку. Разве это давало последнему право обрушивать на голову Владимира сокрушительный удар, разбивать в кровь лицо, валить его на пол, нецензурно оскорблять обоих братьев? Но Александру Еременко нельзя верить, когда он выдвигает и столь пустяковый повод для оправдания своего зверства. Он просто изворачивается. Вы, конечно, запомнили, как еще 2 мая Еременко пытался обмануть следователя и выдумал лживую историю о нападении на него и Иванова двух Далмацких, из которых один - старший, то есть Иван, ранил в голову Игоря, а его, Еременко, - в руку. Под влиянием фактов Еременко впоследствии признал фальшивость первоначального показания и придумал новую историю с прикосновением Владимира к его левой руке. Нет, Еременко верить опасно, тем более что и процессуально он не свидетель, а сообвиняемый, чьи показания всегда требуют особой тщательной проверки.
Итак, первый этап реального нападения Еременко на Далмацких не вызвал сомнения у следователя, который предъявил Еременко обвинение в злостном хулиганстве.
Наступил второй этап: Еременко снова направился к своей жертве, теперь вдвоем с Игорем Ивановым. Правда, он отрицает умысел на новое нападение. Он сказал, что пошел не драться, а разыскивать по вагонам участников выпивки у Семашко. Довольно странное объяснение. Почему их надо было искать в случайном поезде, а не на квартирах или на улицах Петродворца? Он утверждает, что Иванов ничего не знал об избиении Владимира Далмацкого. Вот его подлинные слова в суде: «Когда я подошел к Игорю, то не сказал, что в тамбуре я ударил Владимира Далмацкого, я даже забыл об этом». Надо быть безнадежно испорченным лицемером, лгуном или предельно пьяным, чтобы покалечить человека и сразу же забыть столь постыдный и злобный поступок. Пойдем на самое крайнее - согласимся, в конце концов, что он, Еременко, все забыл. Но Иван Далмацкий ничего не забыл Такой человек, как Саша Еременко, не прояснит дела. Кроме того, остается еще другой источник познания истины, источник, безусловно, заслуживающий доверия и внимания, - это показания свидетеля Ангелины Красовской. Ей незачем выгораживать Далмацких. Она их не знает. Красовская, несомненно, симпатизировала Еременко, но и ради его спасения она не поступилась совестью.
По мнению обвинителей, Иван Далмацкий жаждал крови и размахивал ножом перед стеклом двери в тамбур. Ангелина же Красовская говорит, что по виду Далмацкого, размахивавшего ножом, было ясно, что он не желал, чтобы к нему подходили. Первое суждение, исходящее от обвинителей, достаточно наивно. Если бы Иван Далмацкий, мстя за брата, хотел нанести ножевое ранение обидчику или его приятелю, вряд ли он стал бы предупреждать их, размахивая ножом. Оценка же поведения Ивана Далмацкого, сделанная Ангелиной Красовской, вполне разумна. Обратите внимание: приближался вновь к тамбуру не случайный прохожий, но личность, ставшая Далмацкому хорошо известной и правомерно внушавшая ему страх.
С оборонительной точки зрения, избитый Владимир уже не помощь для Ивана. Иван остался один, а силач и дебошир возвращается снова, да еще с компаньоном. Иван не знал, кто он такой. Для него Игорь был лишь напарником Саши, а кто такой Саша - Иван уже отлично себе уяснил. Не забудьте, что и пассажиры вагона Пироженко и Сидоренко еще на предварительном следствии удостоверили, что как Иванов, так и Еременко были порядком нетрезвы. Так чего же хорошего мог ожидать от их прихода в тамбур Иван Далмацкий? Естественно, что он угрожал ножом, чтобы отпугнуть нападавших, а не для вызова на хулиганский бой.
Уважаемые обвинители, увлеченные односторонней версией о хулиганских побуждениях, якобы руководивших Иваном Далмацким, настаивают на том, будто ему ничто не угрожало. Допустим. Поверим, что Еременко и Иванов шли в тамбур с миссией доброй воли. Но откуда об этом мог знать Далмацкий? Ведь, избив в первый свой заход Владимира Далмацкого, Еременко, как помните из рассказа Красовской, отнюдь не был склонен извиниться или хотя бы считать инцидент исчерпанным. Так почему же Иван Далмацкий должен был поверить во внезапное перерождение этого человека, особенно после того, как тот укрепил свою позицию привлечением дополнительной силы в лице Иванова? Но самое, пожалуй, страшное то, что Еременко и Иванов все-таки действительно шли драться. Вот что мы узнали на этот счет от Красовской, допрошенной одной из первых в прокуратуре. В томе первом дела на листах 136, 137 и 152 имеются следующие протокольные записи ее показаний: «Я поняла, что Иванов и Еременко будут драться с Далмацкими. Иванов пошел вперед, Еременко сзади. Я не хотела смотреть драку, поэтому вслед за Еременко и Ивановым в тамбур, где находились Далмацкие, не пошла». И далее: «Я не люблю смотреть, как дерутся». Вы, граждане судьи, по существу этой записи также допрашивали Красовскую, и она в этом зале повторила то же самое.
Нужно и можно считать вполне доказанным, что опьяневший Еременко затеял злую потеху и вовлек в нее Игоря на погибель последнего. Не случайно поэтому и государственный обвинитель справедливо, но безуспешно пытался разбудить Сашину совесть, призывая его согласиться, что моральная ответственность за смерть Игоря Иванова при всех обстоятельствах остается на нем, Саше Еременко, заботливо оберегаемом почтенными корреспондентами. Древние мастера слова учили, что, кто много доказывает, тот ничего не докажет. Судебный защитник не вправе пренебрегать ни одним доказательством, проясняющим невиновность или меньшую виновность подсудимого. Следователь и обвинители, чтобы доказать хулиганский характер ранения Игоря Иванова, ссылались на то, что Иван Далмацкий раньше Иванова не знал, что применение ножа было вероломным и для Иванова неожиданным. А ведь и это совсем не так. Приведу дополнительные доказательства. Мы слыхали от Красовской, что, возвратясь из тамбура в вагон, после оказания первой помощи избитому Владимиру Далмацкому, она подошла к Еременко и Иванову, отозвала их в сторону и предупредила того и другого, что у Ивана Далмацкого есть нож. Больше того, она упрашивала обоих молодых людей не ходить в тамбур, указывая на опасность. Но уговоры привели к совершенно обратному эффекту - Еременко ей ответил: «Пустяки, я его ударил левой рукой, а если ударю правой - будет хуже». Успокаивал Красовскую и Игорь Иванов, заверил, что «все будет хорошо». Красовская, видя, что Еременко и Иванов не внемлют ее доводам и рвутся драться в тамбур, загородила собой проход, но они ее оттолкнули и все-таки двинулись к Далмацким. Абсолютно то же самое Красовская показывала и следователю, в чем легко убедиться из протокола ее допроса на листе 152 первого тома дела.
Иван Далмацкий стоял в тамбуре, видел борьбу между Красовской и ее приятелями. Возможно, что он слышал глупую похвальбу Еременко и во всяком случае отлично сознавал, что могут натворить кулаки боксера. И когда Иванов и Еременко, оттолкнув Красовскую, ворвались в тамбур, для Ивана Далмацкого наступило то самое положение, которое дает право на необходимую оборону.
Обвинители, чтобы опровергнуть тезис об убийстве при обороне, пусть с превышением ее необходимых пределов, ссылаются на то, что, видите ли, не было элементов внезапного нападения, что Иванов ничего плохого Далмацкому не делал. Так по закону вовсе и не требуется для признания необходимой обороны элемента внезапности. Пленум Верховного Суда в известном постановлении от 23 октября 1956 года указал, что «состояние необходимой обороны наступает не только в момент нападения, но и в тех случаях, когда налицо реальная угроза нападения». Какой еще, разрешите спросить, реальности обязан был дожидаться Иван Далмацкий? В тамбуре около него едва живой брат Владимир. К тамбуру рвутся, отталкивая Красовскую, подвыпившие парни, ухарский нрав одного из коих испытан уже достаточно реально. Не хочу думать плохо об Игоре Иванове. Но Далмацкий так думать мог. У него были все основания считать Иванова соратником Еременко в начатом нападении, как это считала и Красовская. И если даже Далмацкий ошибался, то в данном случае, как указал тот же Пленум Верховного Суда, наступает состояние мнимой обороны, не имеющей ничего даже отдаленно общего с хулиганскими побуждениями. Таким образом, не подлежит никакому сомнению, что Далмацкий причинил ножевое ранение Иванову, находясь в состоянии обороны.
Превысил ли Далмацкий пределы дозволенной законом обороны, подлежит ли он уголовной ответственности? Вопрос не простой. Он решается в зависимости от того, должен ли был Иван Далмацкий терпеливо выжидать, пока с ним не расправятся так, как несколькими минутами раньше расправились с его братом Владимиром. Очевидно, что было бы несправедливым предъявить такое требование к Далмацкому. Не могли он обратиться в бегство, допустим, в следующий вагон, оставив на произвол судьбы и на милость нападавших неспособного к самозащите Владимира? Не говоря уже об аморальности подобного поведения, спасительное бегство исключалось по той причине, что входная дверь в следующий вагон не открывалась. Это единогласно подтвердили свидетели - проводники поезда. Была еще одна возможность - спрыгнуть на ходу поезда под откос, но и это почти верная смерть и предательство беззащитного Владимира. Наконец, можно было как будто прорваться внутрь вагона. Но ведь там у самого входа стоят Еременко и Иванов, соприкосновения с которыми больше всего и страшился Далмацкий. Оставалось одно - защищаться, не выходя из тамбура. Как - это уже другой вопрос. Вряд ли с голыми руками Далмацкий один против двух мог надеяться на успех. Не исключено, что в данной обстановке позволительно было воспользоваться любым средством отражения, включая карманный нож. Однако от нанесения смертельного удара, по крайней мере на этом этапе обороны, следовало удержаться. Далмацкий мог для приведения в чувство нападавших ограничиться нанесением менее серьезного ранения в любую неопасную для жизни часть тела. Нет спора, что в создавшейся обстановке рассуждать и думать было не так просто. Предельно, в чем можно обвинить Ивана Далмацкого, причем со смягчающими обстоятельствами, это в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, т.е. по ст. 105-й УК. Предложенная квалификация не требует обязательного лишения свободы. Если вы учтете все особенности обстановки, при которой Далмацкому пришлось защищать себя и брата, но не найдете возможным согласиться с его объяснениями о необходимой обороне, то, даже признав превышение ее законных пределов, я надеюсь, что вы не станете лишать Далмацкого свободы.
Киселев Я.С. Речь в защиту Бердникова
Товарищи судьи!
Я должен покаяться - слишком много мы, стороны, вносили горячности в допрос подсудимого и потерпевшей. Временами в судебном заседании бушевали страсти. Барометр показывал бурю.
Но в этом повинны не столько мы, сколько само дело. По нему невозможно вынести приговор, который в какой-то степени удовлетворял бы обе стороны, нельзя прийти к выводу: в чем-то право обвинение, а кое в чем права защита. Нет, одно из двух: или подсудимый - человек без совести и чести, он цинично преследовал потерпевшую, а теперь так же цинично клевещет на нее, или потерпевшая, которая отнюдь не потерпевшая, цинично обманывала честного и прямодушного человека, а когда обман должен был раскрыться, она, чтобы помешать этому, возводит ложное обвинение. Или или! Третьего не дано.
Приступая к судебному следствию, каждая из сторон не только считала свою точку зрения единственно возможной, но любую иную рассматривала едва ли не как посягательство на истину. Но вот закончено судебное следствие. Все доказательства рассмотрены, исследованы, проверены. Не осталось ничего невыясненного или сомнительного. Все стало на свои места. А позиции сторон? Кое-что изменилось, но в главном они остались прежними. Спор продолжается. Но теперь уже нет места для страстей. В действие должен вступить точный, беспристрастный, выверенный анализ.
Наше дело должно было пройти сложный и трудный путь. Да и как могло быть иначе? Следствие еще не было закончено, не были получены последние объяснения обвиняемого, шел еще допрос свидетелей и никто, разумеется, не знал, что они покажут, а обвинение против Сергея Тимофеевича Бердникова было уже признано установленным и доказанным. Признано путем, для которого в законе нет основания, путем несправедливым, вызывающим острое чувство протеста. За неделю до окончания следствия появился в газете тот самый фельетон «Чубаровец в конторке мастера», который приобщен к делу. В фельетоне как о чем-то совершенно достоверном доводится до общего сведения о преступлении Бердникова: 54-летний селадон понуждал к сожительству молодую, светящуюся нежным розовым светом невинности Наталию Туркину, попавшую на свою беду в зависимость от Бердникова.
Выступление печати! Оно, естественно, воспринимается как выражение общественного мнения. С вниманием и уважением мы относимся к нему. Тысячами читателей фельетон был воспринят как полное и верное отражение действительности. Вина Бердникова считалась доказанной еще до того, как дело пришло в суд.
Да, суд независим. Фельетон не может предрешить приговор. Все это самоочевидно. Но ведь не существует такого барьера, да и не нужен он, который отгораживал бы суд от общественного мнения, выраженного в печати. Не обинуясь, можно сказать, что появление фельетона потребовало от суда дополнительных усилий для того, чтобы подойти к делу непредвзято, чтобы освободиться от воздействия навязываемой точки зрения. Не сомневаюсь, суд с этим справился и справится. Но это не значит, что работа суда не была затруднена. В гораздо большей степени фельетон затруднил работу следователя. Следователь поторопился, надеюсь, теперь это уже очевидно, передавая материалы фельетонисту. Фельетонист поторопился с опубликованием своего опуса. И вот началось то, что психологи называют индукцией: сначала следователь вдохновил фельетониста, а затем фельетонист стал вдохновлять следователя. В самом деле, допустим, что после появления фельетона Бердников представил следствию убедительные доказательства своей невиновности. В какое положение поставил себя следователь? Что ему делать? Прекратить дело? Казалось бы, единственное, что нужно сделать! А как быть с фельетоном? Материал-то давал он, следователь. Значит, нужно признать, что ввел в заблуждение общественное мнение, зря очернил честного человека. Нужно! Но… сколько «но» расставил на своем пути следователь. Впрочем, от этих «но» можно и избавиться. Для этого надобно только одно: верить! Верить, несмотря ни на что, верить вопреки всему, верить, пренебрегая доказательствами, что Бердников виноват. Ведь если с ходу отвергнуть все доводы Бердникова, как бы они ни были убедительны, то тогда окажется, что фельетон, хотя и ставит в трудное положение, но только Бердникова, а не следователя.
Я не случайно начал с покаяния в горячности. Если страсти и разгорались, то не в малой степени повинен в этом злополучный фельетон. Фельетон приобщен следователем к делу. Зачем? Как доказательство? Фельетон им служить не может. Приобщен как мнение сведущего лица? И это невозможно, если следовать закону. Для чего же приобщен фельетон? Неужели для эдакого деликатного предупреждения судьям: «Вы, конечно, свободны вынести любой приговор, но учтите, общественное мнение уже выражено»? Нет, не могу я допустить, что обвинительная власть пыталась таким путем воздействовать на суд. Так для чего же приобщен фельетон? Неизвестно. Хорошо было бы, объясни нам это прокурор в реплике. Справедливости ради нужно отметить, что в обвинительной речи ни слова не было о фельетоне. Светлый облик Наталии Федоровны Туркиной, так любовно выписанный фельетонистом, настолько потускнел, что о фельетоне было неловко и вспоминать. Хотя облик Туркиной и претерпел изменения, все же ее показания по-прежнему, по мнению прокурора, остаются основой обвинения.
Что же, попытаемся проверить эти показания.
Суд их помнит, и если я позволю что-то повторить, то только потому, что теперь, когда все материалы дела проверены, легко обнаружить в показаниях Туркиной то, что раньше ускользало от внимания.
Наталия Федоровна Туркина, только что предупрежденная об ответственности за дачу ложных показаний, начала с заявления: «Я буду показывать только правду». Никто еще в этом не усомнился, а Туркина торопится рассеять сомнения. Но не будем к этому придираться, отнесем это за счет того, что, как только речь заходит об ее правдивости, Наталия Федоровна становится особо чувствительной и щепетильной.
Но вот уже следующая фраза, дополнившая декларацию о правдивости, заслуживает особого внимания. Туркина возвестила: «Я не питаю никакого зла к Бердникову». Это звучит как едва прикрытая просьба о доверии - не питает зла, значит, не станет возводить ложное обвинение. И я, как защитник Бердникова, готов повторить вслед за Туркиной - верно, не питает она зла к подсудимому.
Стоит призадуматься, как могло случиться, что жертва не питает зла к обидчику? Бердников, если верить Туркиной, посягал на ее женскую честь, преследовал ее, ставил в невыносимое положение, позорил ее и клеветал на нее, словом, причинил ей из самых гнусных побуждений столько зла. Как же могло все это не возмутить ее? Вчуже пылаешь гневом против Бердникова, когда слышишь, как он издевался над беззащитной Туркиной. Как же ей, униженной и оскорбленной, не питать зла к нему?
Нет, если правда то, что Туркина показывала о Бердникове, то она говорит неправду, заявляя, что не питает к нему зла. Или, если говорит правду, что не имеет против него зла, то неправда все то, что она наговорила на Бердникова.
Не будем излишне строги к Туркиной. Может быть, первые неудачные фразы в ее показаниях объясняются волнением, таким понятным. Проверим, какова суть ее показаний.
Наталия Федоровна, сообщив суду, что она правдива и очищена от злых чувств, перешла к изложению фактов. Она показала, что была принята на завод по рекомендации и настоянию Бердникова. Эти показания ее верны. Она показывала, что Бердников, мастер, начальник смены, сам обучал ее токарному делу. И эти показания ее верны. Она показала, что бывали случаи, когда Бердников, хотя небольшую, но часть работы за нее делал, чтобы она выполнила норму. И эти показания ее верны.
Итак, ее показания о том, что Бердников внимательно и заботливо относился к ней несколько первых месяцев ее работы на заводе, полностью соответствуют действительности.
Туркина старательно работала, и это подтверждается. Следовательно, не было никаких деловых причин к тому, чтобы мастер изменил к худшему отношение к добросовестной работнице. А отношения изменились. И очень резко. Бердников не то, что стал безразличен к той, к кому он был так заботлив, он стал враждебен, открыто, не скрываясь, враждебен. Туркина показывала: Бердников придирчиво выискивал брак в ее работе. И это подтвердилось. Туркина показывала: Бердников выживал ее с завода. И это подтвердилось. Начальник цеха, свидетель Свиридов, припомнил: когда он пытался образумить Бердникова и убедить его быть справедливым к Туркиной, Бердников раскрыл свой замысел: «Гнать ее нужно с завода, гнать!»
Но почему «нужно гнать», не сказал.
Сами эти факты, о которых говорит Туркина, достаточно впечатляющи. И легко может показаться, что то объяснение, которое она дает этим фактам, похоже на правду. Наталия Федоровна, видя заботу и внимание мастера, была убеждена, что он все это делает, так сказать, по зову совести. Но как она ошиблась! Оказывается, Бердников расставлял силки, он надеялся склонить ее к сожительству. Действовал он осторожно, ничем не возбуждая ее подозрений. По простоте душевной она поделилась с Бердниковым своей радостью: муж, который свыше года был в отсутствии, приехал к ней. И тут-то Бердников, сообразив, что рушится все то, что он так коварно и так тщательно готовил, потребовал грубо и цинично: «Сожительствуй со мной!» Потребовал угрожая и запугивая. И только тогда открылись глаза у Наталии Федоровны. Это было для нее катастрофой. Так гибнет вера в человека. А когда возмущенная до глубины души Наталия Федоровна отвергла циничное предложение Бердникова, он стал выживать ее с завода.
И чтобы подтвердить и эту часть своих показаний, Наталия Федоровна еще на следствии предъявила записку Бердникова. Ярость лишила его осторожности, он, разоблачая себя, написал: «В последний раз говорю, не хочешь добром, заставлю».
Все в показаниях Туркиной как будто убеждает, все как будто свидетельствует о вине Бердникова. И все же… В суде нет ничего опаснее полуправды. Ложь полная и законченная, ее нетрудно обнаружить. Полуправда неизмеримо труднее разоблачается. В полуправду вкраплены фактик, другой, а то и третий, каждый из них чем-то подтвержден, - вот и возникает нечто вроде психологической экстраполяции. Часть фактов верна, значит, и другая верна. А это вовсе не так.
Судебное следствие, проведенное так, что в значительной мере была выполнена работа, которую надлежало проделать следователю, дает нам право утверждать: показания Туркиной есть та полуправда, что на самом деле является только оболочкой для лжи. Для оценки показаний Туркиной самым важным, как это нередко бывает, оказывается не то, что в них есть, а то, чего в них нет, то, о чем предпочла умолчать Туркина.
В апреле этого года вернулся к Туркиной ее законный супруг, Александр Туркин. До его приезда чистая и наивная Наталия Федоровна и не подозревала о злом умысле Бердникова. Запомним это. А запомнив, постараемся разобраться, почему Туркина рассказ о своих отношениях с Бердниковым начинает с октября прошлого года, то есть с того времени, когда она пришла на завод. Почему начинает с октября? Разве задолго до начала ее работы на заводе не возникли, развились и окрепли ее отношения с Бердниковым? Об этих своих отношениях не только в трех своих показаниях на следствии, но и здесь, в суде, Туркина не промолвила ни слова до тех пор, пока в результате допроса у нее не была отнята возможность их отрицать. Что же было в этих отношениях такого, что побуждало Наталию Федоровну так старательно скрывать их?
Спрашивая так, не ставлю ли я, по известному присловью, телегу впереди коня? Не доказав еще, что были какие-то особые отношения, связывающие Бердникова и Туркину, я позволяю себе утверждать, что она их скрывает. Есть ли к тому доказательства?
Можно ли считать таким доказательством показания Бердникова? Он утверждал и утверждает, что Туркина с ним сожительствовала задолго до ее поступления на завод, когда не могло быть и речи о какой бы то ни было служебной зависимости. Но Бердников - подсудимый и, конечно, понимает, что для его оправдания необходимо вызвать недоверие к показаниям Туркиной.
Есть еще одно обстоятельство, которое, на первый взгляд, ослабляет доказательственное значение показаний Бердникова. На вопрос следователя Бердников показал, что никаких доказательств, подтверждающих его заявление о близости с Туркиной, он представить не может.
Следователь счел его заявление клеветой, вызванной стремлением снять с себя ответственность.
Следователя можно было бы понять, если бы он, прежде чем решить вопрос, кому верить, Бердникову или Туркиной, сделал бы все необходимое, чтобы разобраться в подлинном облике их обоих. Но даже намека на такую попытку в деле не найдешь. Поэтому и пришлось нам в суде так много заниматься тем, что надлежало сделать на предварительном следствии.
Клевещет ли Бердников? Чтобы обоснованно ответить на это, нужно присмотреться, и внимательно, к Наталии Федоровне Туркиной.
По показаниям Туркиной, она немногим более года назад приехала из Пскова к своей матери. Что делала, где и как трудилась Наталия Федоровна в Пскове? На следствии она об этом умолчала. Но в суде Туркина все же была спрошена, на какие средства она жила в Пскове? Товарищи судьи, вы помните ее ответ: «Жила на средства мужа». Отвечая, Наталия Федоровна не знала или не помнила, что по запросу суда получена копия приговора, которым осужден ее муж. Не буду упрекать ее за то, что она говорила неправду о муже. Свидетельница Варкушева показала, что Туркина ей жаловалась: муж ее, электромонтер, погиб на трудовом посту, в аварии. Так Туркина рассказывала пригорюнясь и свидетелю Прохорову. Наталию Федоровну можно по-человечески понять: не очень приятно разглашать, что муж отбывает наказание. Но есть одно обстоятельство, характеризующее Туркину значительно острее, чем ложь о муже. Когда Туркину спросили, зачем она живого мужа записывала в покойники, она без тени смущения, мгновенно найдясь, парировала обвинение во лжи: «Что из того, что он жив? Для меня он был мертв». Стыдно лгать, но проявлять такую «находчивость», когда уличена во лжи, пожалуй, еще стыднее!
Итак, выяснилось, в Пскове супруги Туркины жили на средства главы семьи - Александра Туркина. Из приговора видно, что Туркин в течение полутора лет совершил 14 краж. Совершал он их аккуратно, осмотрительно, долго не попадаясь, и совершал их вроде как по расписанию, примерно по одной краже в месяц. И любящие супруги, Наталия и Александр Туркины, жили на уворованное. Все это и называла Наталия Федоровна «жить на средства мужа». Жила, расходовала украденные деньги так, чтобы их хватило до следующей кражи, и ничего - не возражала.
Позволю себе выразить уверенность, что если бы следователь знал то, что узнано на суде, то Наталии Федоровне не было бы оказано столь широкое доверие, и при решении вопроса, кто из двоих говорит правду, она или Сергей Тимофеевич Бердников, вопрос не был бы столь категорически решен в пользу Туркиной.
Но, может быть, в Пскове Наталия Федоровна была под тлетворным влиянием своего супруга, а приехав в Ленинград, она сбросила груз прошлого и обновилась душой? Проверим, что же она делала в Ленинграде.
Следователю она сообщила, не вдаваясь в излишние подробности: сначала работала на конфетной фабрике, а затем перешла работать на завод, где трудился Бердников. Никакой проверкой показаний Туркиной следователь и не стал заниматься, разве можно оскорблять ее недоверием?! А судом была запрошена справка с конфетной фабрики, и выяснилось: снова сказала неправду Наталия Федоровна. Между ее работой на фабрике и поступлением на завод был перерыв в восемь месяцев, и эти восемь месяцев нигде не работала. На какие же средства жила она?
Теперь мы это уже знаем. Наталия Федоровна рассказала, что на кондитерской фабрике ее зарплата была невелика. Это Туркину не устраивало. Мать Наталии Федоровны, вспомнив, что знала жену Бердникова, умершую несколько лет назад, и надоумила дочь: Бердников живет один в двухкомнатной квартире, порядка ему, разумеется, в ней не навести, пусть Наталия сходит к нему, предложит убирать квартиру. Хоть небольшой, все же приработок. Как сказала старушка-мать, так и сделала послушная дочка. Бердников сначала отказался от ее услуг, но затем согласился. Так стала Наталия Федоровна убирать квартиру одинокого Бердникова. Ничего больше!
Только убирать. Работодатель и работница - все отношения. «И пусть будет стыдно тому, кто плохо думает», как говорят французы. И так убирала все те восемь месяцев, которые не работала, и платы за уборку квартиры хватало на жизнь Наталии Федоровне. Честным трудом зарабатывала на жизнь. Похвально. Почему же стала это скрывать?
Да, Бердников ответил на следствии, что он не может представить доказательств близости, возникшей между ним и Туркиной, но едва ли нужно было следователю удовольствоваться этим ответом. Сергей Тимофеевич Бердников - пожилой человек, совершенно не искушенный в вопросах права, потрясенный позорным обвинением, на него возведенным, растерянный и вместе с тем полный понятной ярости, разве мог он без посторонней помощи разобраться в том, что может или не может служить доказательством? Ведь он и слыхом не слыхивал, что существуют прямые и косвенные доказательства и что значение последних может быть не меньше, чем прямых.
Разве мог он знать, какие обстоятельства могут стать косвенными доказательствами? Разве не было обязанностью следователя, стремящегося к отысканию правды, помочь Бердникову в спокойной и неторопливой, не омраченной недоверчивостью беседе, именно беседе, а не допросе, выяснить, нет ли чего-либо такого, что Бердникову и не кажется доказательством, а в самом деле доказывает правдивость заявления Бердникова о его отношениях с Туркиной? Выполни правильно свой долг следователь, и доказательства выявились бы, как выявились они в суде!
Выявились с такой убедительностью, что прокурор в обвинительной речи признал: да, в этой части Наталия Федоровна солгать изволила, она действительно была в интимных отношениях с Бердниковым задолго до ее поступления на завод. Прокурор признал доказанным, что Туркина оставила работу на конфетной фабрике, предпочитая жить, ничего не делая, за счет Бердникова. Не признать интимных связей между Бердниковым и Туркиной, сколько бы она это ни отрицала, было невозможно после показаний свидетельницы Екатерининской, допрошенной впервые только в суде. Свидетельница владеет домом в Ольгино, это у нее в доме в августе прошлого года снимали на месяц комнату Бердников и Туркина. Жили они в одной комнате, рекомендовались как муж и жена, вели общее хозяйство.
Ложь Туркиной, отрицавшей близкие отношения с Бердниковым, была разоблачена.
Эти близкие отношения прокурор считал аморальными и в них в первую очередь винил Бердникова. Эти отношения действительно аморальны, но по чьей вине, к кому следует обратить упрек?
Да, верно, между Бердниковым и Туркиной большая разница в возрасте: 54 года и 31. И нет в Бердникове ничего такого, что могло бы привлечь к нему молодую и миловидную женщину. Угрюм и мрачноват Сергей Тимофеевич. Да и как ему быть другим? Безрадостными были последние, перед встречей с Туркиной, годы его жизни. Еще семь лет тому назад все хорошо было у Бердникова. С женой жил душа в душу. Двумя своими сыновьями гордился. И внезапно, когда ничего не предвещало грозы, врачи обнаружили у жены Сергея Тимофеевича неизлечимую и быстро развивающуюся опухоль в мозгу. Операция и смерть на операционном столе. Вскоре старший сын ушел в армию и остался на сверхсрочной. А младший сын женился и перешел в семью жены. И стал дом Бердникова домом Бердникова, опустевшим, затихшим и бесприютным. Остался Бердников один, и это в 47 лет. Сил еще много, а они только тяготят. Одни люди борются с горем, не дают ему взять верх над собой. А другие без борьбы смиряются с ним. И горе хозяином расселяется в доме. И жизнь становится хмурой и тягостной. И чем дальше, тем все более хмурой и тягостной. Бердников, человек по натуре сильный, оказался немощным перед горем.
Вы слышали отзывы свидетелей Варкушевой, Сергеенко, Прохорова. Если где и жил Бердников, то только на работе. Но и там замечали, что он становится все более угрюмым, ушедшим в себя. Ровен, справедлив, но людей вроде как сторонился: не то не хотел их омрачать своим горем, не то опасался, как бы не начали они проявлять к нему жалость.
Трудно так жить из года в год. Но ничего не делал Сергей Тимофеевич, чтобы изменить свою жизнь. Тащились медленно и безрадостно дни. И привык к этому, но и тяготился. Таким застала его Туркина.
В первых же своих показаниях она, верная своей манере оспаривать обвинение, которое еще никто не выдвигал, стала заверять: «Завлекать Бердникова - не завлекала».
Так ли это? Вспомним еще раз выдумку Наталии Федоровны о смерти своего мужа. Не спорю, не так уж проницательна и тонка Туркина, чтобы разобраться сразу же в душевном состоянии Бердникова, но в житейской хватке и смекалке супруге Александра Туркина не откажешь. Она сообразила, что если чем и можно пронять Бердникова, то только одним: сочувствием к горю. Горю, схожему с тем, что выпало на его долю. Бердников всенепременно посочувствует, так сказать, «сестре по несчастью». И, не затрудняя себя разными моральными запретами, «открылась» Бердникову: горе у нее горькое, молодого мужа схоронила, вдовствует, бедняжка!
«Завлекать - не завлекала», избави боже, но выдумать, что она вдова и во вдовстве своем в утешении нуждается, - выдумала!
Но разве это единственная, говоря мягко, выдумка Наталии Федоровны, сочиненная для того, чтобы растрогать Бердникова? А насквозь лживый рассказ о том, что ее мать больна, за ней нужен уход, и мечется бедная Наталия Федоровна: на фабрику пойдет - мать нельзя одну оставить, дома останется - кормить мать не на что будет. А в судебном следствии установлено: мать здорова и непрерывно работала на «Красном треугольнике».
Неплохо придумала Наталия Федоровна! И не только потому, что выдумка открывала для нее кошелек Бердникова, Неплохо придумала и потому, что женским чутьем своим угадала: крепче всего привяжет к себе Бердникова, если он почувствует себя нужным ей. Закостеневшему в своем одиночестве Сергею Тимофеевичу было так внове и вместе с тем так радостно чувствовать себя кому-то нужным, сознавать, что может кого-то радовать, облегчать жизнь. Быть нужным Туркиной стало для Бердникова потребностью, которая росла с каждым днем. Он-то считал, что необходим ей, а на самом деле мало-помалу Туркина делалась необходимой ему, как бы снова обретшему жизнь.
Говоря так, не забываю ли я, что Бердников почти вдвое старше Туркиной, что за его плечами большая жизнь? Неужели можно допустить, что Туркина водила его вокруг пальца, а он так ничего и не замечал?
Ошибочно было бы думать, что существует прямая пропорция между возрастом и умением разбираться в людях, между возрастом и способностью распознать ложь и лицемерие, во что бы они ни рядились. Бердникова жизнь не баловала, но от встреч с дурными людьми долго оберегала. Он остался прямодушным и бесхитростным. А такие всегда доверчивы. Боюсь, что это прозвучит сентиментально, но ничего не поделаешь, такова правда: в пожилом, много пережившем Бердникове осталось немало наивного. Достаточно, чтобы поддаться обману.
Вот как случилось, что он поверил Туркиной. И больно, и горько, и унизительно было Бердникову здесь в суде рассказывать, в какое нелепое и смешное положение попал он: на пороге старости он, как мальчишка, поверил в то, во что нельзя было поверить. Туркина, лукавя и хитря, плела небылицы, и он сочувствовал ей и от всего сердца стремился помочь. Она «поверяла» ему, как тяжело она переносит смерть мужа, и он верил ей. Она «поверяла» ему, что ей в ее состоянии больше всего нужна верная и надежная мужская рука, которая защитила бы от бед и напастей, и Бердников верил ей. Туркина стыдливо «призналась», что она стосковалась по покою, по уверенности в завтрашнем дне, по всему тому, что ей может дать только он один, Бердников, ее единственный друг и покровитель. Бердников и в это поверил.
Так постепенно вкралась Наталия Федоровна в доверие, а затем и в сердце Бердникова. И когда они стали близки, то для Туркиной это была, как бы помягче сказать, деловая сделка, а для Бердникова вновь обретенная семейная жизнь.
Нет, не было оснований у прокурора упрекать Бердникова в аморальности. Сергей Тимофеевич не «брал на содержание» Туркину. Сергей Тимофеевич не из тех людей, которые легко привязываются. Он из тех, кто, почувствовав привязанность и тепло к человеку, распахнет сердце настежь. Иначе не умеет.
В какой-то мере это признается и в обвинительной речи. Но делается из этого неожиданный вывод: Бердников действительно испытывал привязанность к Туркиной. А когда она после приезда мужа прервала отношения с Бердниковым, то он, не желая с этим смириться, стал понуждать ее к сожительству, используя служебную от него зависимость.
Как видите, обвинение значительно изменилось. Но и в изменившемся виде оно образует тот же состав преступления.
Но, проверяя обоснованность этого обвинения, мы не можем не признать, что значительно изменилось и наше отношение к источникам доказательств. Если раньше показания Туркиной воспринимались обвинением как незыблемый оплот истины, как трубный глас правды, то сейчас основывать свои выводы на них было бы по меньшей мере неосторожно.
Мы можем и вправе, в полном соответствии с требованиями закона, придать доказательственное значение объяснениям Бердникова. И не в том только дело, что все то, что он показывал, нашло, как мы убедились, объективное подтверждение. Важно, крайне важно для Сергея Тимофеевича, чтобы он почувствовал, что ему верят, вопреки показаниям Туркиной, верят, отвергая ее показания, верят ему, не доверяя ей. Такое доверие значит сейчас для Бердникова больше, чем даже вопрос о том, как решится его судьба. Зло, которое причинила ему Туркина, вовсе не исчерпывается тем, что она возвела на него ложное обвинение. Нет, самое большое зло, самую большую обиду принесла ему Туркина до того, как возникло дело, когда о возведении обвинения она еще и не помышляла. И об этом зле, которое причинила Туркина, причинила расчетливо, сознавая размер зла и нисколько этим не смущаясь, я не имею права не сказать.
С октября прошлого года по апрель нынешнего были светлыми месяцы в жизни Бердникова: Наталия Туркина уступила настояниям Бердникова и стала работать. Он не понимал, как может молодая, крепкая женщина нигде не работать. Это было для Сергея Тимофеевича тем более неприятно, что Туркина, уже уверенная в своей власти над Бердниковым, перестала лгать о болезни матери. Туркина пошла навстречу желаниям Бердникова и начала работать на заводе, значит, они будут почти неразлучны.
Туркина оказалась способной к работе и действительно, к чести Наталии Федоровны нужно сказать, увлеклась ею. Не нарадоваться Бердникову на Туркину. Все чаще заходит речь о том, что им нужно съехаться, и Туркина никак не возражает, только то по одной, то по другой причине откладывает переезд. Словом, все безоблачно. 14 апреля приезжает Александр Туркин. Приезд его был неожиданностью. Я не имею никаких оснований брать под сомнение привязанность Туркиной к своему мужу, как нет у меня оснований отвергать его любовь к своей жене. Ведь явно неверно представлять себе, что если Туркин совершал кражи, то он неспособен на подлинное человеческое чувство. И естественно, что, любя свою жену, он не потерпел бы, чтобы она длила связь с Бердниковым. Это было ясно и Туркиной. И она заметалась. Порвать нужно и сейчас же! Но как это сделать, никак не подготовив Бердникова? Трудное положение: нельзя правду открыть, но и скрывать ее невозможно. Очевидно, в самооправдание она и солгала мужу, что Бердников понуждал ее к сожительству. Солгала, убежденная, что дальше мужа это не пойдет. И, ломая голову, как уладить то, что она своей ложью так усложнила, Туркина решила несколько дней не ходить на работу, авось, что-нибудь за эти дни и придумается. Это было худшим из решений. Бердников, ничего не зная, обеспокоенный ее отсутствием и тем, что никаких вестей о себе не подает, пришел к Туркиной.
Мы видели поведение Туркина на суде, как часто приходилось призывать его к порядку. Можно без труда понять, как вел он себя дома, чувствуя себя оскорбленным в лучших чувствах и видя перед собой оскорбителя.
Даже Туркина вынуждена была признать: «Сергей Тимофеевич ничего мужу не отвечал, стоял и молчал, будто его мешком по голове стукнули». Нет, для Бердникова это было куда чудовищнее и страшнее. Внезапно, когда он менее всего этого ожидал, раскрылось: Туркина лгала, лгала все время, лгала про все. Лгала про мужа, лгала, что хочет связать свою жизнь с Бердниковым, лгала про свои чувства. Но не только бесстыдно его обманывала. Она отдала его добрые чувства, его привязанность к ней, его доверчивость на посмеяние, на поругание. Было от чего Бердникову прийти в отчаяние, и, словно для того, чтобы уже полностью залить душу Бердникова горечью, Туркина согласилась, только подумать, согласилась исполнить то, что говорил Александр Туркин: «Гони его, гони, чтобы я слышал», - требовал Туркин. И Туркина это сделала!
Рассказывать об этом и то очень тягостно. Что же должен был перечувствовать Сергей Тимофеевич! Какая боль, мука и стыд жгли его! И ни с кого не спросишь. Только с себя. И горькой, все обостряющейся мукой стали для него каждодневные встречи на заводе с Туркиной.
Уйти самому с завода? На нем он проработал всю жизнь. Работа - единственное, что у него осталось. Уйти с завода - на это у него не хватит сил. И он потребовал, да, потребовал, чтобы Туркина ушла с завода. И когда она не захотела уйти (не могу разобраться, почему Туркина держалась за работу на заводе, но держалась), Бердников стал, нарушая в какой-то мере служебные права, выживать ее с завода. Тут есть нарушение служебных обязанностей, и если у кого хватит сердца поставить ему это в вину, пусть поставит.
Но прокурор видит в резком изменении отношения Бердникова к Туркиной, видит в снижении ее заработка и ухудшении условий ее труда только одно: понуждение к сожительству.
Да, все было: и снижение заработка, и ухудшение условий работы. Но ведь это не все, что можно выдвинуть против Бердникова. Прокурору следовало бы сказать и о том, что бесспорно установлено: Бердников выживал Туркину с завода, делал все, что мог и на что не имел права, чтобы она ушла с работы. Почему об этом умолчал прокурор? Ведь это должно было вызвать наибольший гнев обвинителя: старательную работницу выживают с завода! Громите! Клеймите! Обрушьте обвинение со всей силой! А обвинитель молчит. Впрочем, молчание это не столь уж загадочно. Чем отчетливее выявляется стремление Бердникова к тому, чтобы Туркина ушла с завода, тем меньше остается оснований обвинять его в понуждении к сожительству, используя ее служебную зависимость. Ведь с уходом Туркиной с завода исчезает ее служебная зависимость, Бердников теряет единственный способ воздействия на нее.
Признав, что Бердников выживает Туркину с завода - а не признать это невозможно, прокурор понимает, что это означает признать установленным, что Бердников сознательно лишал себя средств понуждения.
А теперь становится понятным и смысл той записки, которую пыталась выдать Туркина за способ понуждения.
Туркина оставалась на заводе, оставалась, зная, какую муку причиняет Бердникову. Боясь за себя, боясь, что, встретившись с Туркиной с глазу на глаз, он не совладает с собой, Бердников и написал:
«В последний раз говорю, не хочешь добром, заставлю». Он не дописал: «уходи с завода». Из записки, в самом деле, не видно, что он требует ее ухода с завода. Он-то считал, что дьявольски хитро и осторожно написал свою записку, а она едва не превратилась в опасную улику. Думается, теперь можно сказать: обвинение против Сергея Тимофеевича Бердникова не выдержало судебной проверки.
Но остается ответить еще на последний вопрос: что же толкнуло Наталию Федоровну Туркину на возведение ложного обвинения?
Не хочу быть несправедливым к Туркиной. Думается: заявляя начальнику цеха о притеснениях, которым ее подвергал Бердников, о его домогательствах близости с ней, она и не предполагала, что это ее заявление поведет к возбуждению уголовного дела против Бердникова. Верю, что Туркина не хотела зла Бердникову. Могло быть и так: Туркина опасалась, что Бердников, возмущенный тем, что она сотворила, с кем-нибудь поделится, и пойдет о ней худая слава, а вот если она заявит о том, что Бердников склоняет ее к сожительству, а она не соглашается, то веры Бердникову не будет. У Туркиной могли быть разные мотивы: она, возможно, заявила и для того, чтобы начальник цеха помешал Бердникову притеснять ее.
Неожиданно для Туркиной начальник цеха дал официальное движение ее заявлению, и она попала в плен собственной лжи. Когда ее вызвали на первый допрос, Туркина оказалась перед выбором: или признать, что она оклеветала Бердникова, не понуждал он ее к сожительству, и тогда ей, Туркиной, надлежит нести ответ за возведение ложного обвинения, или же подтвердить обвинение. Недолго колебалась Туркина. Так и возникло обвинение против Бердникова.
В суде, возможно, Туркина была бы и рада рассказать правду, но, сказав правду, она понесет ответственность за возведение ложного обвинения. И не решилась Туркина на правду.
Верю, что Наталия Федоровна в глубине души хочет, чтобы вы ей не поверили, хотя прокурор ей и поверил, но, очевидно, с какими-то оговорками, если просил об условном наказании для Бердникова.
Но разве наказание страшит Бердникова!
Самым страшным и самым тяжким было бы для него, если бы вы поверили Туркиной. Лгать и оставаться неразоблаченной, обмануть доверие и быть признанной правдивой, надругаться над человеком и добиться, чтобы его признали виновным, что может быть страшнее!
Туркина сделала все, что могла, чтобы убить в Бердникове веру в правду, в справедливость, в чистоту и ясность чувств и отношений. Нужно исправить то зло, что причинила Туркина. А это можно сделать только оправдательным приговором. Приговор вернет веру Бердникова в то, что ложь рано или поздно, но обязательно разоблачается, а хитрость посрамляется.
Росселъс В.Л. Речь в защиту Семеновых
Товарищи судьи!
Старый рабочий, слесарь Семенов никогда не забудет тот холодный декабрьский день, когда он встретил давнишнего знакомого, почтенного, уважаемого и занимающего, с его точки зрения, высокое положение главного бухгалтера главка Любомудрова.
Знакомство с Виктором Ивановичем Семенов ценил, оно казалось ему даже лестным.
Встречи этой ему не забыть.
Навсегда сохранится в памяти Семенова и просьба, с которой обратился к нему Любомудров. «Гавриил Борисович, - сказал он, - машинистка наша перепечатала для учреждения не входящую в ее обязанности работу, а оплатить ей, штатной машинистке, сверх заработной платы тысячу рублей как-то неудобно. Не поможете ли? Да в чем сомневаетесь? Ведь это же совсем просто. Я выпишу по счету вашей жене деньги на ее имя, вы с ее доверенностью их получите, передадите мне, а я - машинистке. Вот как приходится обходить бюрократические формальности», - вздохнул он.
Екнуло, сильнее забилось сердце у Семенова: «Хорошо ли?» Но тут же одумался.
«В чем дело, в конце концов? Тысячу рублей получу, полностью отдам, и машинистка своего не потеряет. Что же тут плохого? Да и не кто-нибудь просит, а Виктор Иванович…»
Согласился…
Разговор этот, как на камне высеченный, из памяти его не изгладится.
Как обещал, так и сделал.
Полина Александровна по просьбе мужа написала счет и доверенность, а он, получив по изготовленной Любомудровым на имя его жены доверенности тысячу рублей, передал их Любомудрову.
«Спасибо, Гавриил Борисович». - «Да что вы, не за что, Виктор Иванович».
И только значительно позже, у следователя, Семенов узнал, что не было никакой работы, никакой машинистки, что старый знакомый, почтенный, уважаемый главный бухгалтер главка Виктор Иванович Любомудров обманул его и жену.
«Поверить не мог. Потемнело в глазах, подкосились ноги, стали как ватные», - вспоминал здесь об этом Семенов.
Все так, как было, рассказали Семеновы следователю, и он поверил и тому, что они обмануты Любомудровым, и их бескорыстию.
Да и как было не поверить Семеновым, которым проще было бы утверждать, что Полина Александровна действительно работала и за работу получила законно причитавшееся ей вознаграждение.
Но Семеновы говорят правду - никакой работы Полина Александровна не выполняла, да и не в состоянии была по объему своих знаний и компетенции выполнить работу, о которой она и представления не имела.
Легко было проверить Семеновых еще и потому, что в аналогичном положении оказались и другие простые душой люди, бескорыстие которых было выгодно использовать Любомудрову и которых он, как и Семеновых, убеждал, что они делают хотя по форме неправильное, но по существу доброе дело.
Поверил Семеновым следователь и, несмотря на это, внес их в список тех, кому суждено было разделить скамью подсудимых с Любомудровым.
И вот они перед вами.
Такова горькая судьба этих неискушенных, слишком доверчивых людей, прошедших весь свой долгий путь по прямым и светлым дорогам жизни, не ведая о кривых и темных ее переулках, о звериных ее тропах, по которым бродят хищники.
Мы слышали здесь прокурора.
И он поверил Семеновым, но… тем не менее предлагает осудить их как соучастников Любомудрова, обвиняемого в хищении.
И вот Семеновы, всю жизнь прожившие рука об руку и здесь сидящие рядом, поникшие и растерянные, с тоской внимают речи прокурора, искусно доказывающего, что обманувший Любомудров и обманутые им Семеновы связаны одним общим умыслом, направленным на хищение тысячи рублей, как будто у рыбака и трепещущей в его хитро сплетенной сети рыбы возможен общий умысел.
Можно ли согласиться с прокурором, утверждающим «виновны и должны быть осуждены», или прав защитник, говорящий «невиновны, должны быть оправданы!»
Вам придется решить, кто из нас прав.
Вы помните, товарищи судьи, что Семенов на вопрос, признает ли он себя виновным, ответил: «Тысячу рублей получил и отдал их Любомудрову, в этом каюсь, но у меня и в помыслах не было содействовать ему в хищении».
В этих простых, бесхитростных словах заключено содержание, имеющее серьезное правовое значение. «И в помыслах не было» - это значит на языке права «не было умысла».
Хищение - преступление умышленное, и само собой разумеется, что Семеновы могли бы быть осуждены за участие в этом преступлении только в том случае, если была бы установлена их умышленная вина.
Однако наличие умышленной вины предполагает раньше всего сознание лицом фактических обстоятельств, образующих соответствующий состав преступления.
Но ведь прокурор согласен, что здесь именно те фактические обстоятельства, которые образуют состав хищения, и были скрыты от Семеновых.
Ведь в их представлении, в противоречии с действительностью, существовали и машинистка, и работа, за выполнение которой ей законно причиталось получить тысячу рублей.
Но если в сознании Семеновых не создалось представления о готовящемся Любомудровым хищении, то не может быть и речи об умышленной их вине.
Однако и этого не отрицает прокурор, прямой умысел Любомудрова был направлен на хищение тысячи рублей, а умысел Семенова - на уплату этой суммы машинистке за произведенную ею работу.
И, наконец, эти соображения, устанавливающие отсутствие умышленной вины у Семеновых, подкрепляются и тем имеющим самое серьезное значение обстоятельством, против которого также не спорит прокурор, что Семеновы никакой корыстной или иной заинтересованности не имели.
Этот факт делает предположение о соучастии Семеновых в хищении государственного имущества совершенно необоснованным, предположение это повисает в воздухе, лишенное почвы, на которой могло бы вырасти соучастие в тяжком, касающемся экономической основы государства преступлении, грозящем преступнику суровым наказанием.
Вот почему полагаю, что в споре с прокурором я прав. Обманутые Семеновы не могут быть осуждены за соучастие с Любомудровым в хищении государственного имущества.
Однако остается еще серьезный уголовно-правовой вопрос.
Семеновы без умысла, направленного на хищение, бескорыстно передали Любомудрову тысячу рублей, но деньги эти они получили из кассы главка подложно, за работу, которую они не делали.
Ответ находим в законе.
Подлог предусмотрен ст. 72 и 1201 УК нашей республики. Обе эти статьи не предусматривают подлогов, бескорыстно совершенных частными лицами. Такой подлог не является преступлением и уголовно не наказуем.
Стало быть, Семеновы не участвовали ни в хищении, ни в совершении уголовно наказуемого подлога и должны быть судом оправданы.
Этим, казалось бы, я исчерпал свою непосредственную задачу защитника.
Но я не могу и не хочу уйти при оценке поведения Семеновых от общественного долга защитника, обязывающего меня ответить еще на один, настоятельно требующий разрешения вопрос.
Можно ли считать соответствующим интересам государства и общества, справедливым, честным, заслуживающим уважения и одобрения поведение Семеновых, получивших подложно из государственного учреждения не причитающиеся им деньги, хотя бы переданные впоследствии тому, кому, по их убеждению, они причитались? Конечно, нет.
Такие действия наше общество никогда не сочтет соответствующими нормам поведения советского человека. Семеновы не нарушили норм права, воплощенных в уголовном законе, но нарушили нормы морали, которые хотя и не поддерживаются силой государственного аппарата, но поддерживаются силой общественного мнения относительно того, что является правильным или неправильным, справедливым или несправедливым, хорошим или дурным.
Нормы социалистического права и нормы социалистической нравственности, отличаясь друг от друга источником силы, принуждающей к их исполнению, связаны, как два ствола одного корня, общим происхождением, проникают друг в друга и, находясь между собой в неразрывном взаимодействии, служат одной и той же цели - построению коммунизма.
Эта их общность и тесная связь вытекают из самой природы нашего социалистического права и социалистической нравственности, между которыми нет пропасти и которые, наоборот, покоясь на одних и тех же принципах, граничат друг с другом.
Семеновы, несомненно, нарушили нормы нравственности. Может ли защитник, «добру и злу внимая равнодушно», пройти мимо такого рода нарушения и не высказать слов морального осуждения?
Конечно, нет. Не может этого сделать и суд…
Судебный зал - лаборатория, в которой формируется общественное сознание граждан, поэтому здесь громко должны прозвучать слова осуждения неправильных, недопустимых действий Семеновых. Но нарушение норм морали влечет моральное, а не уголовно-правовое осуждение.
Моральную недопустимость своего поведения сейчас понимают и Семеновы.
Семенов сказал: «Виновным себя не признаю, но каюсь в том что я сделал». Это значит: «Я не нарушал норм уголовного закона, а нарушил нормы социалистической морали и в этом раскаиваюсь».
Он и на этот раз, как всю жизнь, сказал правду.
В правде, в труде, в уважении, в любви друг к другу, к людям, к своему государству, не омраченная столкновениями с законом, протекала спокойная жизнь рабочего Гавриила Борисовича Семенова и его жены, скромной служащей Полины Александровны.
И вдруг…
Нет, никогда не забыть им Любомудрова, никогда не изжить им постигшего их на склоне лет разочарования, никогда не погаснут в их памяти эти тяжкие дни…
Они совершили, и они сознают это, противообщественный про ступок, но они не совершали преступления. Морального осуждения они заслуживают, и они его уже получили. Но для их осуждения в уголовном порядке и применения к ним уголовного наказания нет законного основания. Я прошу их оправдать.
Царев В.И. Обвинительная речь по делу братьев Кондраковых
Товарищи судьи!
Никто из жителей поселка Великодворье и близлежащих деревень не мог знать о том, что в ночь на 4 апреля того года кому-то из них угрожала опасность, кто-то мог стать жертвой разбойного нападения, хотя такая опасность и существовала.
Два брата - Виктор и Николай Кондраковы ночным поездом приехали из поселка Курловского в Великодворье с намерением «добыть денег и одежду». Но на рассвете возвратились домой. А утренним поездом 4 апреля вновь приехали в Великодворье.
Для совершения преступления они стали подыскивать более удаленное от поселка место, расспрашивая местных жителей об окружающих деревнях и, наконец, попали на малышкинскую дорогу. Многие проходившие здесь в тот день граждане видели двух незнакомых мужчин, которые внешне бесцельно бродили по краю леса. Некоторым они показались подозрительными, например, Панфиловой Марии, но мысль о нападении среди белого дня в довольно оживленном месте казалась маловероятной.
Не думали об этом и молодожены Панфиловы, возвращавшиеся по малышки некой дороге домой, в деревню Маевку.
А ведь Кондраковы их вначале наметили в качестве жертв и шли за ними, но не решились осуществить своего намерения, боясь получить отпор со стороны молодых людей. Около 14 часов Кондраковы увидели подходивших к лесу Кривошеевых. Ничего не подозревавшие женщины спокойно прошли мимо, обменявшись с Кондраковыми несколькими фразами относительно поезда, на который они спешили. И вот тут разыгралась страшная трагедия.
Избивая женщин, Кондраковы загнали их в глубь леса, обыскали и отобрали деньги в сумме тридцати рублей. Затем В. Кондраков приказал брату «покараулить» одну из жертв, а сам потащил Кривошееву АС. в сторону и в присутствии односельчанки изнасиловал ее. Совершив надругательство над первой жертвой, Кондраков В. изнасиловал и Кривошееву А.Р., после чего нанес ей множество ударов молотком по голове. Совершив это злодеяние, В. Кондраков передал молоток своему соучастнику и приказал «разделаться» с Кривошеевой А.С. С рвением исполнил роль убийцы Н. Кондраков, остервенело бил он беззащитную женщину по голове молотком, пока она не затихла.
Товарищи судьи! Дело Кондраковых представляет определенную сложность и прежде всего потому, что на скамье подсудимых - два брата, один из которых полностью признает себя виновным и уличает другого, второй категорически все отрицает.
Основная задача суда - установить объективную истину по делу и постановить законный и обоснованный приговор.
Наши выводы об обстоятельствах преступления, о виновности подсудимых должны покоиться на точно установленных фактах, на бесспорных доказательствах.
Мы не можем делать выводы на предположениях, как бы они ни были приблизительно верными, и на доказательствах, хотя бы и свидетельствующих о достаточно высокой степени вероятности вины.
Мы должны строго руководствоваться указаниями В.И. Ленина, что точные факты, бесспорные факты - вот что особенно необходимо, если хотеть серьезно разобраться в сложном и трудном вопросе.
Исходя из такой единственно правильной, основополагающей установки советского доказательственного права, я заявляю, что объективная истина по разбираемому нами делу установлена конкретно и точно: разбойное нападение на Кривошееву А.С. и Кривошееву А.Р., их изнасилование и убийство совершены братьями Кондраковыми.
Я не могу сослаться на показания хотя бы одного свидетеля - очевидца преступления. Свидетелей не было. Жертвы оказались с глазу на глаз с преступниками. Но об обстановке преступления рассказал непосредственный его участник - Н. Кондраков. Есть все основания считать, что он дал правдивые показания, объективно подтвержденные иными доказательствами, полученными в ходе расследования дела и тщательно проверенными в суде.
Кондраков Николай подробно рассказал о мотивах преступления, распределении ролей при его совершении, орудий убийства, и все это нашло подтверждение в ходе предварительного и судебного следствия.
Процессуальное положение подсудимого как лица, заинтересованного в благоприятном для него исходе дела, требует осторожного, но не предвзятого отношения к его показаниям, не должно порождать недоверия к ним.
Сложнее обстоит вопрос с показаниями другого подсудимого -Кондракова Виктора.
Сложность не в том, что он отрицает свою вину, а в конкретных действиях этого человека. С первого дня ареста он стремился убедить следствие в своей психической неполноценности. Почему это делалось, станет понятным, если мы обратимся к данным, характеризующим личность Кондракова Виктора.
Ранее дважды судимый, причем в последний раз за разбойное нападение, он, вследствие симуляции душевной болезни, сумел избежать полного отбытия наказания. Длительное пребывание в психиатрических лечебницах на исследованиях помогло ему позаимствовать характерные отклонения от норм в поведении, свойственные лицам, страдающим психическими расстройствами. И поскольку симуляция сумасшествия помогла Кондракову освободиться от наказания, то почему бы не прибегнуть к этому испытанному приему вновь? Будучи арестованным, он сразу же начинает играть роль душевнобольного: на вопросы следователя дает нарочито неправильные ответы, демонстративно чешется, закатывает глаза, плюется, бесконечно строит отвратительные гримасы.
Но совершенно иначе В. Кондраков ведет себя вне следственного кабинета. С первых же дней пребывания в камере предварительного заключения, как о том показали свидетели - сотрудники милиции Иванов и Дятлов, он активно старается воздействовать на своего младшего брата, кричит ему через стенку: «Не сознавайся, я все взял на себя, пускай меня считают умалишенным. Самое большое - три года в белом доме и выпустят, не таких проводил». То же самое он писал брату в записках, которые пытался тайно передать ему в следственном изоляторе. Эти записки приобщены к делу и были зачитаны в ходе судебного следствия.
Позвольте, товарищи судьи, перейти к анализу показаний В. Кондракова.
Суть их сводится к тому, что 4 апреля он якобы в Великодворье не был, а ездил в Туму наниматься в пастухи. Стремясь убедить суд в правдивости своих показаний, В. Кондраков детально рисует эту поездку. Кого только он не встретил тогда в Туме! Здесь и женщина с рассадой, и девушка в красном пальто, и пассажиры с поросятами в корзинах, и играющие в футбол ребята, и милиционер, подозрительно посмотревший на него.
Если рассматривать эти показания просто по-житейски, то как раз такая детализация и убеждает в их неправдоподобности. Трудно себе представить, чтобы человек во время поездки по своим делам стал фиксировать внимание на подобных фактах, а главное - помнить о них. Но тогда зачем это навязчивое перечисление? Расчет прямой: придать достоверность своим показаниям относительно поездки 4 апреля в Туму. Ведь факты проверить невозможно. Но в деле имеются веские доказательства, свидетельствующие о том, что Кондраков 4 апреля в Туму не ездил. Я имею в виду записки, которые он пытался передать брату. Вот текст записок: «Говори, встречал одного мужика на вокзале в Великодворье, он предложил все это сделать. В воскресенье говори, что ты поехал в Великодворье к Томке, я буду говорить - поехал в Туму наниматься в пастухи. В Курлове садились вместе. В Великодворье ты сошел, я поехал в Туму. Коля, что будет, не знаю. Напиши мне записку, положи там, где возможно. Коля, свидетели показывают на тебя…
…Коля, если знал бы я, что ты, гад, так продал своего брата, зачем ты все рассказал про меня. Меня никто не опознал, на меня никто не показывает. Я пока в сознанку не иду».
В письме к матери он умоляет ее найти подставных свидетелей, которые могли бы подтвердить факт его пребывания в Туме 4 апреля. Содержание этого письма таково: «Здравствуй, мама, прошу тебя найти мне свидетелей человека два. Это будет достаточно, чтобы меня освободили. Чтобы эти люди, когда вызовут в милицию, могли подтвердить, что меня видели 4 апреля, в воскресенье, в Туме на вокзале в 3 часа дня. Уговори Саньку Марьину и еще сходи поговори с Нинкой - тети Дуниной, и ее мужем, пусть они подтвердят, что я ехал вместе с ними в одном вагоне до Тумы 4 апреля, в воскресенье, чтобы они так показывали, как я пишу. Мама, съезди в деревню, уговори тети Матрены дочку, пусть она подтвердит, что тоже меня видела на вокзале в Туме 4 апреля, в воскресенье. Мама, все силы приложи: найди свидетелей и уговори их. Мама, на меня никто не показывает. На брата Колю показывают три человека, что видели его с каким-то мужиком».
Лица, на которых Кондраков ссылается в письме, установлены и допрошены. Они не подтвердили его алиби и заявили, что в Туму 4 апреля не ездили.
Здесь, на суде, Кондраков заявил, что хотел спасти брата Николая, как он выразился, «взять убийство на себя», а потому писал записки и письмо с расчетом, что следствие «клюнет на мякину». Но из текста записок и письма это вовсе не вытекает. Наоборот, в записках он просит брата выгородить его самого. Какие дополнительные доказательства дают мне основание утверждать, что Кондраков Виктор приезжал 4 апреля в Великодворье?
Кондраков Николай сообщил, что в пути следования к поселку Великодворье в поезде 4 апреля его брат Виктор был оштрафован ревизором за безбилетный проезд. Добытые в результате проверки этого факта доказательства - показания ревизора Кузнецова, постановление о наложении штрафа на В. Кондракова, квитанция об уплате штрафа Кондраковой Матреной - матерью подсудимых - явились серьезными уликами против Кондракова.
Из показаний Н. Кондракова и Т. Быковой известно, что 4 апреля на В. Кондракове была черная тужурка с коричневым меховым воротником, дерматиновые сапоги и светлая фуражка.
Свидетель Жалин, знавший и ранее Н. Кондракова, подтвердил, что 4 апреля он видел его в Великодворье вместе с мужчиной, одетым в черную тужурку, «на голове - черная фуражка, на ногах - сапоги кирзовые или резиновые, точно не заметил».
Свидетели Алексеев, Тряпкин, Лобанова, Лебедева заявили на предварительном и судебном следствии, что они видели 4 апреля на малышкинской дороге молодого парня, одетого в серый плащ, и впоследствии опознали в нем Н. Кондракова, однако опознать находившегося вместе с ним мужчину, одетого «во что-то черное», не смогли, так как этот мужчина при встрече с ними либо закрывал лицо воротником, либо находился сзади первого, и лица не было видно. В. Кондраков был опознан только двумя свидетелями: Панфиловой, видевшей его на малышкинской дороге вместе с Н. Кондраковым, и буфетчицей Великодворской чайной Качулькиной, которая продала ему в 16 часов 4 апреля пирожки.
Слушая показания свидетелей, вы, товарищи судьи, конечно, не могли не отметить того, что некоторые из них вовсе не обратили внимания на одежду преступников, либо говорят об этом неопределенно: «был в чем-то черном», либо путают отдельные виды обуви (сапоги кирзовые или резиновые). Но это не противоречия в показаниях свидетелей. Это, если хотите, несовершенство человеческой памяти. Известно, что одни и те же явления запоминаются людьми по-разному. И объясняется это индивидуальными особенностями восприятия увиденного, а иногда и просто забывчивостью. Так и в данном случае. Свидетели видели преступников впервые, непродолжительное время. Правильнее было бы сказать, что свидетели не видели в них преступников. Двое незнакомых мужчин на малышкинской дороге ничем примечательным не отличались от других граждан.
На предварительном следствии Н. Кондраков сообщил, что сапоги, в которые были обуты в момент совершения преступления он и его брат Виктор, спрятаны последним во дворе дома, в поленницах. У Кондраковых провели повторный обыск. В поленнице, находящейся в сарае, были обнаружены кирзовые сапоги, а другие, дерматиновые, завернутые в головной платок, оказались спрятанными в поленнице, уложенной около сарая. Предъявленный сестре обвиняемых головной платок опознан ею как принадлежащий матери.
На предварительном следствии 27 апреля В. Кондраков объяснил: «Были у меня дерматиновые сапоги, которые я отдавал в починку в мастерскую, когда приехал из заключения. После починки сапоги мне стали малы, и я их продал на рынке». На допросе 28 мая, то есть после обнаружения сапог, он уже давал другие показания: «Мне мать давала дерматиновые сапоги с хромовыми головками. Я их вымыл и отнес в мастерскую ремонтировать. Мне набили на сапоги подметки, я примерил их, и они оказались мне малы, поэтому я носить их не стал. Когда мать давала мне сапоги, она сказала, что это мои сапоги, но их носил Колька… Куда делись эти сапоги, я не знаю».
В заявлении на имя прокурора области от 7 июня В. Кондраков писал: «4 апреля я встретил брата в Курлове. У брата в руках были сапоги, брат сказал мне, что дал ему их мужик. Эти сапоги я подшил, но они мне оказались малы, никак не лезли на простую ногу. Брат эти сапоги спрятал куда-то».
Итак, вначале починенные дерматиновые сапоги были проданы, затем они неизвестно куда пропали, и, наконец, их спрятал куда-то брат Николай.
На суде В. Кондраков говорил иное. Оказывается, он уже и не носил чинить сапоги.
Эти противоречия в его показаниях доказывают, что ему всячески хотелось бы отмежеваться от сапог, найденных при обыске. Однако мать подсудимых показала, что сапоги в починку сдавал ее сын - Виктор. Признал свою работу и мастер Крестов.
К делу приобщена квитанция от 7 апреля о сдаче обуви в ремонт, выписанная на имя В. Кондракова. Правда, эта же квитанция была в свое время переписана на фамилию Шестакова, что поначалу вызвало у следствия недоумение. На поверку все оказалось очень просто. Деньги, уплаченные за ремонт сапог Кондраковым, миновали государственную кассу и попали непосредственно в руки мастера, а квитанция, как бланк строгой отчетности, была переписана на другое лицо. Нет, видимо, еще порядка в комбинате бытового обслуживания?! Но квитанция все же неумолимо свидетельствует о том, что сапоги в починку сдавал В. Кондраков. Это было спустя три дня после убийства.
Остается еще привести заключение эксперта-криминалиста, данное здесь, на суде. Из заключения следует, что дерматиновые сапоги по своему размеру вполне подходят для В. Кондракова, хотя вчера он демонстрировал уродливо, что они якобы детского размера.
Из показаний матери подсудимого, Кондраковой Матрены, видно, что в день обнаружения в лесу трупов женщин сын Николай дал ей 5 рублей, а 20 рублей она обнаружила спрятанными в подкладке тужурки Виктора.
После очных ставок с матерью В. Кондраков вынужден был признать этот факт, но тут же заявил, что деньги привез из заключения, где приобрел их, сдавая в ларек стеклянные банки.
Эта версия тщательно проверялась следствием. Утверждение подсудимого о способе приобретения денег опровергается показаниями свидетелей и официальными документами. Работники мест заключения, где Кондраков отбывал наказание, пояснили, что стеклянная тара от заключенных в торговые ларьки не принималась, товарные операции совершались по безналичному расчету.
Свидетель Отрекалин, который, по заявлению Кондракова, мог бы подтвердить, что у него были в больнице деньги, ни на следствии, ни в суде этого не сделал. Из приобщенных к делу документов (лицевые счета по обеспечению заключенных, накладная Владимирской психиатрической больницы) усматривается, что при освобождении из лагеря и выписке из больницы Кондраков Виктор денег и ценностей при себе не имел.
Но, зная быт заключенных, я могу допустить мысль, что у Кондракова могли быть деньги, даже если бы он и не занимался сбором банок. И все же, несмотря на это, я утверждаю, что 20 рублей, о которых идет речь, добыты им в результате совершенного в Великодворье преступления. Эти деньги были обнаружены при весьма необычных обстоятельствах: при осмотре матерью одежды сыновей, чтобы замыть на ней кровь, так как она подозревала их в убийстве двух женщин. Деньги оказались спрятанными под подкладку тужурки. Согласитесь, что такой способ хранения денег довольно странный. Спрашивается, от кого и почему Кондраков прятал деньги? Мне бы не хотелось еще раз ссылаться на показания матери Кондраковых, но все же напомню, что ранее об указанных деньгах она ничего не знала и, обнаружив, не взяла их у сына, так как предположила, что это деньги убитых женщин.
И наконец, найденные у Кондракова деньги были пятирублевыми купюрами. Такими же купюрами и в такой же сумме были деньги у потерпевшей Кривошеевой А.Р., что подтвердил в суде ее свекор - Кривошеев И.М. Совпадение не случайное.
При обыске в доме Кондраковых, кроме сапог, были обнаружены и изъяты два молотка.
При предъявлении их Кондракову Николаю он пояснил, что один из молотков, слесарный, на короткой ручке, они брали с братом, собираясь совершить преступление, и на обратном пути выбросили его на железнодорожное полотно. Как молоток оказался вновь дома, Н. Кондраков объяснить не смог.
При биологическом исследовании на ручке этого молотка обнаружена кровь человека. Судебно-медицинской экспертизой дано заключение, что потерпевшим нанесены повреждения предметом с прямоугольной ударяющей поверхностью. Таким предметом мог быть молоток, изъятый в доме Кондраковых.
Возникает вопрос: как попало в дом Кондраковых орудие убийства?
На суде Кондраков В. заявил, что якобы в его присутствии следователь Т.М. Целиковская сказала своему помощнику: «Надо съездить в Курлово и подбросить молоток в дом Кондраковых». Вот, оказывается, как он возвратился в дом преступников. Эта нелепость понадобилась подсудимому не случайно. Мы знаем, с какой тревогой он относился к возможности оставления отпечатков пальцев на металлических и стеклянных предметах, а поэтому молоток не давал ему покоя. Более того, выяснено, что Кондракова Матрена, подозревая сыновей в убийстве, обнаружила исчезновение молотка из дома и на этот счет вела разговоры в семье. Это непредвиденное обстоятельство не могло не обеспокоить В. Кондракова. Молоток встал ему поперек горла. И я утверждаю: это он отыскал его и вновь принес домой. В этом меня убеждает и тот факт, что 6 апреля В. Кондракова видели у железнодорожной ветки вблизи станции Великодворье. Свидетель Калинкин показал в суде, что он спросил тогда В. Кондракова: «Чем занимаешься?», и он ответил: «Собираю красивые камешки».
Вспомните показания Н. Кондракова о том, что на месте убийства брат его предупреждал не оставлять отпечатков пальцев на железных пряжках рюкзака и на графине. По указанию Виктора Николай разбил графин и осколки затоптал в снег, что подтверждается данными осмотра места происшествия. И все-таки следы оставлены, и оставил их не кто иной, как сам В. Кондраков. Они зафиксированы, изъяты с места убийства и исследованы экспертизой. Я говорю о крови и сперме.
Биологическая экспертиза сделала вывод, что на одежде потерпевших, в мазках их влагалищ обнаружена сперма такой же группы, что и у Кондракова.
Н. Кондраков показал, что А.Р. Кривошеева оказывала В. Кондракову физическое сопротивление, наносила ему удары в лицо.
На снегу, действительно, обнаружена кровь, сходная по группе с кровью В. Кондракова.
Кровь и сперма - это серьезные улики. Правда, здесь, в суде, В. Кондраков громогласно заявил, что людей с такой группой крови в стране много. С этим нельзя не согласиться. Но эти улики рассматриваются нами вкупе с другими доказательствами, в их неразрывной связи. А при этом условии вывод единственный: Виктор Кондраков - убийца и насильник.
Товарищи судьи! Рассмотрим вопрос о юридической квалификации состава преступлений, совершенных подсудимыми.
Кондраковы преданы суду по обвинению в том, что они в 130-м квартале Великодворского лесничества на дороге между поселком Великодворье и деревней Малышкино 4 апреля того года совершили разбойное нападение на Кривошееву А.Р. и Кривошееву А.С., угрожая им убийством и нанося побои, отобрали 30 рублей, изнасиловали, а затем с особой жестокостью убили потерпевших.
Разбойное нападение на Кривошеевых с целью завладения их имуществом совершено Кондраковыми по предварительному сговору между собой и с применением молотка в качестве оружия, что подпадает под п. «а» и «б» части второй ст. 146 УК РСФСР.
Учитывая, что В. Кондраков ранее был судим по п. «а» и «б» части второй ст. 91 УК РСФСР, его действия дополнительно квалифицированы также по п. «д» части второй ст. 146 УК РСФСР.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 г. № 9 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам об умышленном убийстве» лишение жизни потерпевшего, совершенное при разбойном нападении, должно квалифицироваться по совокупности, то есть по п. «а» ст. 102 и ст. 146 УК РСФСР. В этом же постановлении указано, что убийство следует признавать совершенным с особой жестокостью в тех случаях, когда потерпевшему непосредственно перед лишением жизни или в процессе совершения убийства заведомо для виновного причинялись особые мучения или страдания путем пытки, истязания, нанесения большого количества ран. Особая жестокость может выражаться и в причинении заведомо для виновного особых страданий близким потерпевшему лицам, присутствующим на месте преступления.
Нанесение Кривошеевой А.Р. 14 ран, Кривошеевой А.С. 9 ран, не совместимых с жизнью, дает все основания считать способ совершения убийства особо жестоким.
Об особо жестоком отношении подсудимых к своим жертвам свидетельствует и сама обстановка совершения преступления. Можно представить психическое состояние Кривошеевой А.С, когда в непосредственной близости от нее преступник надругался над ее односельчанкой, а затем учинил над ней жестокую расправу. Поэтому действия подсудимых прямо подпадают под пункт «г» ст. 102 УК.
В упомянутом постановлении Пленума сказано, что умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, подлежит квалификации по п. «е» ст. 102 УК РСФСР. Содержится ли в действиях Кондракова Николая такой квалифицирующий признак, как убийство, сопряженное с изнасилованием? Ведь он лично не совершал насильственные половые акты.
Здесь я хотел бы сослаться на постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. «О судебной практике по делам об изнасиловании». В этом постановлении говорится, что как групповое изнасилование должны квалифицироваться не только действия лиц, совершивших насильственный половой акт, но и действия тех, кто содействовал им путем применения насилия к потерпевшей, причем они должны признаваться соисполнителями, а не пособниками.
Как установлено на следствии и в суде, насильственные половые акты совершал Кондраков Виктор, а Кондраков Николай содействовал ему в этом и таким образом выполнял роль соисполнителя этого преступления. Считаю, что его действия в этой части правильно квалифицированы по п. «е» ст. 102 УК РСФСР.
Кондраковы совершили умышленное убийство двух лиц, что прямо предусмотрено п. «з» ст. 102 УК РСФСР. Такова юридическая квалификация преступных действий Кондраковых.
В. Кондраков ранее дважды судим: в 1956 году к двум годам лишения свободы за хищение; в 1958 году к 10 годам лишения свободы за разбойное нападение на магазин при отягчающих обстоятельствах. Вторая судимость не погашена. Он вновь совершил убийство и разбойное нападение при отягчающих обстоятельствах. Исходя из этого, а также личности виновного, степени общественной опасности совершенного преступления и в соответствии со ст. 24 УК РСФСР В. Кондраков должен быть признан по суду особо опасным рецидивистом.
Судебная практика воочию подтверждает, что преступники-рецидивисты оказывают тлетворное влияние на неустойчивых молодых людей. Они окружают себя ореолом мнимого героизма и бывалости, похваляются стремлением к легкой жизни за счет общества. Яд, которым отравляют рецидивисты психологию окружающей молодежи, опасен. «Различие между ядами вещественными и умственными, - писал Л.Н. Толстой, - в том, что большинство ядов вещественных противны на вкус, яды же умственные… к несчастью, часто привлекательны». Надо оберегать сознание нашей молодежи от вредного влияния рецидивистов.
И в данном случае совершенно очевидно, что рецидивист В. Кондраков вовлек своего брата в совершение тяжких преступлений. Однако я хотел бы подчеркнуть: у Н. Кондракова своя голова на плечах, не под силой оружия он пошел на разбой, на убийство, и хотя его роль меньше, чем у В. Кондракова, но и он должен нести всю полноту ответственности за совершенные злодеяния.
Перед тем как перейти к изложению соображений о мерах наказания, я должен, товарищи судьи, обратить ваше внимание на характеризующие личности подсудимых обстоятельства, о которых не говорилось при анализе доказательственного материала.
Типично для жизни этих братьев - тунеядство. В. Кондраков постоянно уклонялся от общественно полезного труда, стремился жить за счет общества, ничего ему не давая. Даже попав в места лишения свободы, он не работал, упорно симулирует психическую болезнь не только в целях досрочного освобождения, но и с тем, чтобы не участвовать в физическом труде. Это обстоятельство еще раз подтверждает, что В. Кондраков не простачок-простофиля, каким он желает показать себя здесь, на суде, а весьма изворотливый, хитрый и опасный уголовный преступник, умело использующий ложь, обман, симуляцию.
Нельзя не привести один факт, лишний раз подчеркивающий жестокий характер В. Кондракова.
В приговоре народного суда, осудившего В. Кондракова к 10 годам лишения свободы за разбой в Ногинском районе Московской области, указано, что после завершения разбойного нападения Кондраков пытался изнасиловать продавщицу магазина и отказался от этого намерения только тогда, когда потерпевшая показала ему больничный лист, из которого было видно, что она страдает тяжелой женской болезнью. Он предлагал своему соучастнику убить продавщицу, чтобы она не разоблачила их, но тот, возражая против этого, предложил просто заткнуть ей рот кляпом и завалить мешками с сахаром (сама задохнется!), что и было сделано.
По счастливой случайности потерпевшая тогда осталась жива и впоследствии опознала преступников. Разве этот эпизод не свидетельствует о жестокости В. Кондракова? Разве это преступление не перекликается по своему почерку с преступлением, совершенным в Великодворье?
По образу жизни недалеко ушел от своего брата и Кондраков Николай - молодой, но уже оформившийся лентяй и бездельник. А ведь давно сказано: «безделье - мать всех пороков».
Вот характеристика, данная Н. Кондракову администрацией промкомбината, где он последнее время работал: «Показал себя крайне недисциплинированным, в феврале прогулял четыре дня, в марте дважды являлся на работу пьяным», и очень образное, верное заключение: «Лентяй высшей марки». По этой же причине он в свои 20 лет не получил даже начального образования.
Надо сказать, что администрация и общественность Курловского промкомбината, где Н. Кондраков работал, зная о его недисциплинированности, не принимали мер общественного характера к этому лентяю и прогульщику.
Известно, что каждый случай нарушения дисциплины не должен оставаться без внимания трудового коллектива, общественных организаций. Почему так не делают в промкомбинате? Судя по всему, там полагают, что для укрепления дисциплины достаточно выговора, объявленного приказом директора. Но это далеко не так. Надо создавать в коллективе обстановку нетерпимости к прогульщикам и пьяницам, дать им почувствовать общественное осуждение. Это, как показывает практика, наиболее эффективное и результативное средство укрепления дисциплины труда. Ранее к судебной ответственности Кондраков Николай не привлекался. Но поведение его и в этом отношении было далеко не безупречным.
В октябре 1968 года против него было возбуждено уголовное дело за кражу сумки в вагоне поезда, но следственные органы тогда сочли возможным не привлекать его к уголовной ответственности, а применить к нему лишь меры общественного воздействия.
Проявленная гуманность не дала должных результатов. Через несколько месяцев Н. Кондраков был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Но и это он вскоре забыл. А ведь недаром говорят: «Тем, кто не умеет помнить плохое, суждено повторить его».
Вскоре он был вновь задержан в вагоне поезда, где совершил кражу, при обыске у него обнаружили самодельный пистолет.
Не слишком ли долго нянчилась Курловская милиция с этим злостным нарушителем правопорядка?
Несколько слов о психическом состоянии подсудимых.
Из заключения экспертной комиссии научно-исследовательского института им. проф. Сербского, подтвержденного экспертами-психиатрами в суде, видно, что у Кондраковых Виктора и Николая психического расстройства не имеется; они являются вменяемыми; поведение В. Кондракова на следствии и на исследовании в институте носило симулятивный характер.
В совещательной комнате, товарищи судьи, вы вновь и вновь вспомните о погибших женщинах. Анна Романовна Кривошеева - мать пятерых малолетних детей. Анна Савельевна Кривошеева одна воспитывала ребенка, имела на иждивении престарелую мать.
Не дрогнули предельно черствые сердца подсудимых даже тогда, когда измученные женщины умоляли их о сохранении жизни во имя малолетних детей. Правильно сказано: «Нет сокровища дороже жизни». Но… женщина-мать даже в минуты жестоких страданий думает не о себе, все ее мысли устремлены к детям, которых она призвала к жизни, отдала им все лучшее, на что только была способна.
Товарищи судьи! Охрана личности, неустанная забота о жизни и здоровье советских людей является важнейшей задачей социалистического государства.
Советский закон, ставя под особую защиту от преступных посягательств жизнь человека, допускает за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, в виде исключительной меры наказания, применение смертной казни - расстрела.
Гуманность закона состоит в его непримиримости к бесчеловечным преступлениям. Смертная казнь - не только кара за особо опасное преступление, но и средство предупреждения новых преступлений, ибо преступник обезвреживается, а иным лицам суд делает грозное предупреждение.
Товарищи судьи! Общественность Великодворья, коллектив Тумского лесопункта, от имени которых выступал здесь общественный обвинитель Н.В. Остроумов, дети погибших и их родственники - все они требуют самого сурового наказания подсудимым.
Работники Великодворской средней школы в своем письме указали: «Коллектив школы крайне возмущен дикой расправой над ни в чем не повинными женщинами. Оставшиеся дети, ученики нашей школы, лишились материнской ласки и оказались в очень трудном материальном положении. В настоящее время они находятся на полном государственном обеспечении в интернате школы. Собрание работников школы просит вынести убийцам Кондраковым высшую меру наказания».
Позиция государственного обвинения по вопросу определения подсудимым мер уголовного наказания за убийство двух женщин при отягчающих обстоятельствах и по совокупности совершенных преступлений ясна и понятна. Пусть в вашем, товарищи судьи, приговоре будет начертано одинаково относящееся к каждому подсудимому грозное и беспощадное слово: расстрел!
Магнитофонная запись обвинительной речи по делу Кителева
Товарищи судьи // Коммунистическая партия и Советское правительство / постоянно проявляют заботу // об охране жизни / здоровья и достоинства советского человека / об общественной безопасности всех граждан // Именно этим прежде всего / объясняется издание указа / Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР / от шестнадцатого мая / тысяча девятьсот восемнадцатого года / об усилении мер с пьянством и алкоголизмом // Пьянство является / одним из наиболее омерзительных / явлений в жизни человека / поскольку на данной почве / проявляется неуважение к обществу / нарушение общественного порядка / норм права // Опасность пьянства / заключается и в том / что оно нередко / становится основой для совершения других / более тяжких преступлений //
Товарищи судьи // Дело по которому / вам предстоит вынести приговор / является / на мой взгляд / не совсем обычным // Когда весь советский народ / воодушевленный решениями партии / в частности Двадцать седьмого съезда / строит коммунистическое общество / когда уважение к праву / закону / стало для большинства трудящихся / личным убеждением / подсудимый Кителев / встал на путь пьянства / и преступления /и в конце концов / оказался на скамье подсудимых / за совершенное действие / квалифицируемое в уголовном праве / как изготовление и хранение / без цели сбыта / браги // Это совершил человек / который родился при Советской власти / пользовался всеми благами / предоставленными ему государством // Что же произошло // Почему / вместо того / чтобы жить честно / и трудиться / соблюдать наши законы / и быть достойным членом нашего общества / он оказался на скамье подсудимых // Материалами предварительного следствия / установлено / что шестнадцатого апреля / восемьдесят шестого года / Кителев в своей квартире / по улице Железнодорожников 18 «б» / изготовил / из трех килограмм сахара / и триста грамм дрожжей / массу/ которая хранилась до 19 апреля / восемьдесят шестого года / то есть до того момента / когда было установлено и выявлено / данное нарушение // Жидкость хранилась в емкости / представляющей собой бутыль / емкостью двадцать литров / светло-серого цвета / жидкость с запахом / свойственным спиртному //
В ходе судебного следствия / а также предварительного / подсудимый вину признал / и пояснил / именно данный факт / который я только что изложил // Товарищи судьи / Кроме того / в ходе судебного следствия / были допрошены свидетели / в частности / это теща / являющиеся близкими подсудимому / а также лица / которые работают вместе с ним в одном трудовом коллективе // В ходе предварительного следствия и судебного / подсудимый / вину признал полностью // Действительно / от факта / который установлен / показаниями свидетелей / а также обнаруженной жидкостью в квартире / никуда не денешься / остается только признать / что действительно / изготовил и хранил // В ходе судебного следствия / подсудимый признал вину / пояснил / обстоятельства/ при которых именно изготовлялась жидкость / называемая брагой // Кроме того / из пояснения подсудимого следует / что 19-го апреля / после субботника / он вместе с товарищами / которые сегодня были допрошены в качестве свидетелей / в частности это Коновал и [непонятно] пришли к нему на квартиру / где распили спиртные напитки/в частности водку / он поясняет / что всего две бутылки // Но я полагаю / что каким-то образом / чтобы показать себя с лучшей стороны / может быть / он неточно назвал / количество выпитого спиртного / но в ходе судебного следствия свидетели пояснили / что три бутылки водки // Таким образом товарищи судьи / на каждого лица / как свидетеля так и подсудимого / было распито / по одной бутылке водки // Для каждого нормального человека / думаю / что такое количество достаточно // Однако / подсудимый Кителев / после распития водки / вытащил из тайника / емкость / где была изготовлена брага / им изготовленная / и дал именно выпить свидетелям // Свидетели о том / что они распивали брагу / пояснили в ходе судебного следствия // После чего в угаре пьяном / он затеял ссору с супругой // оскорбил словами / нанес удар / после чего супруга заявила в органы милиции // Вот такие обстоятельства содеянного / именно подсудимым Кителевым / вроде на первый взгляд / не представляют собой какой-либо сложности // Однако / товарищи судьи / если остановиться / и проанализировать действия подсудимого / а также обстоятельства / при которых было совершено преступление / Кителевым / это я считаю необычное / поскольку на сегодняшний день / когда принимаются / усиленные меры / по борьбе именно с пьянством и алкоголизмом / подсудимый зная / что совершает противозаконные действия / однако он изготовил и хранил / а затем угостил гостей // Кроме того // Товарищи судьи / в ходе предварительного следствия установлено / в частности / это вытекает из документа / представленного с места работы / о том / что подсудимый характеризуется с положительной стороны // Однако в ходе судебного следствия / мы услышали от супруги Кителева / что последнее время он приударился / именно на распитие спиртного / стал злоупотреблять // Вот это именно / является основной причиной / что привело его на скамью подсудимых / отсутствие контроля как со своей стороны / а также неоказание реальной помощи со стороны семьи // Но в то же время товарищи судьи / в ходе судебного следствия / вами задавался вопрос / а коллектив / где работает Кителев / интересовался / его жизнью // Оказывается нет // Упустили // Но это слово неприемлемо / в отношении этого дела / поскольку Кителев работает / не один месяц / а целых три года // В коллективе проходит общественное формирование / и конечно можно было / поинтересоваться / как живет член их коллектива / однако этого не было сделано // Таким образом товарищи судьи / я считаю / что действия подсудимого Кителева / квалифицированы правильно / как изготовление и хранение без цели сбыта / браги / то есть совершение преступления / предусмотренного частью первой / статьи 158-й Уголовного кодекса РСФСР // Нашли в ходе судебного следствия свое подтверждение / и я прошу назначить меру наказания / по этой статье / к двум годам исправительных работ по месту работы / с удержанием в доход государства / двадцати процентов заработной платы // Кроме того товарищи судьи / в ходе судебного следствия / было установлено / что направлялись документы / и руководство цеха / было информировано / что / выделить общественного обвинителя / или защитника / однако / этого не было сделано // Это тогда / когда сегодня / требует именно нынешнее положение / как можно больше внимания / и / принятия мер / по таким вот делам // касающимся как именно Кителева // И я просил бы / товарищи судьи / вас / направить в адрес руководства завода / частное определение / поскольку я считаю / что вот именно факт такого / оставления без внимания события / может пагубно влиять / именно на коллектив этого цеха // Все у меня / товарищи судьи //
В двухтомник включены речи семи выдающихся ораторов русской присяжной адвокатуры. Каждый из этой «великолепной семерки» удостоился высоких оценок еще при жизни, на примерах их защитительных речей построены методические рекомендации многих научных работ по ораторскому искусству. Они различались профессиональными пристрастиями, тяготением к разным категориям дел, природными способностями к импровизации или интуитивному предвидению всех опасных поворотов процесса, особенностями ораторских приемов. Объединяли корифеев любовь к профессии, верность адвокатскому долгу и неустанный труд, развивавший их природный художественный дар, либо сделавший их выдающимися ораторами благодаря непрерывной работе над словом. В истории каждой страны есть люди, которые поистине являются ее национальным достоянием. Элита присяжной адвокатуры гордость России.
Шаг 1. Выбирайте книги в каталоге и нажимаете кнопку «Купить»;
Шаг 2. Переходите в раздел «Корзина»;
Шаг 3. Укажите необходимое количество, заполните данные в блоках Получатель и Доставка;
Шаг 4. Нажимаете кнопку «Перейти к оплате».
На данный момент приобрести печатные книги, электронные доступы или книги в подарок библиотеке на сайте ЭБС возможно только по стопроцентной предварительной оплате. После оплаты Вам будет предоставлен доступ к полному тексту учебника в рамках Электронной библиотеки или мы начинаем готовить для Вас заказ в типографии.
Внимание! Просим не менять способ оплаты по заказам. Если Вы уже выбрали какой-либо способ оплаты и не удалось совершить платеж, необходимо переоформить заказ заново и оплатить его другим удобным способом.
Оплатить заказ можно одним из предложенных способов:
- Безналичный способ:
- Банковская карта: необходимо заполнить все поля формы. Некоторые банки просят подтвердить оплату – для этого на Ваш номер телефона придет смс-код.
- Онлайн-банкинг: банки, сотрудничающие с платежным сервисом, предложат свою форму для заполнения.
Просим корректно ввести данные во все поля.
Например, для " class="text-primary">Сбербанк Онлайн требуются номер мобильного телефона и электронная почта. Для " class="text-primary">Альфа-банка потребуются логин в сервисе Альфа-Клик и электронная почта. - Электронный кошелек: если у Вас есть Яндекс-кошелек или Qiwi Wallet, Вы можете оплатить заказ через них. Для этого выберите соответствующий способ оплаты и заполните предложенные поля, затем система перенаправит Вас на страницу для подтверждения выставленного счета.
- Мать-кормилица (лат).
- В надежде (лат.).
- Прямо перед (ним), напротив (франц.).
Александров П. А.
Господа присяжные заседатели! Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но, тем не менее, задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегчённой. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придётся. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?
Всё это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связуется, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведённого В. Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепо- ва, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. В самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень нередко разбирается не только такое преступление, но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснением её затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение генерал-адъютанта Трепова было должностное распоряжение. Но должностное лицо мы теперь не судим, и генерал-адъютант Трепов является здесь в настоящее время не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились бы преступить в защите нашей и которое не может не внушить нам известной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова как лица, потерпевшего от преступления, я очень хорошо понимаю, что не могу касаться действий должностного лица и обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из этого затруднительного положения, в котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом.
Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими освещается и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с простым фонарём, с грошовой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, суда на те же действия должностного лица. Но мы живём в этих, может быть, иногда и ошибочных понятиях, на основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаёмся к нему равнодушны, радуемся, если находим распоряжения вполне справедливыми. Когда действия должностного лица становятся мотивом для наших действий, за которые мы судимся и должны ответствовать, тогда важно иметь в виду не только то, правильны или неправильны действия должностного лица с точки зрения закона, а как мы сами смотрели на них. Не суждения закона о должностном действии, а наши воззрения на него должны быть приняты как обстоятельства, обусловливающие степень нашей ответственности. Пусть эти воззрения будут и неправильны, - они ведь имеют значение не для суда над должностным лицом, а для суда над нашими поступками, соображёнными с теми или другими руководившими нами понятиями.
Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как эти мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моём суждении о событии 13 июля не будет обсуждения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отразилось это событие на уме и убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в этих пределах, я полагаю, не буду судьёю действий должностного лица, и затем надеюсь, что в этих пределах мне будет дана необходимая законная свобода слова и вместе с тем будет оказано снисхождение, если я с некоторой подробностью остановлюсь на таких обстоятельствах, которые с первого взгляда могут и не казаться прямо относящимися к делу. Являясь защитником Веры Засулич, по её собственному избранию, выслушав от неё, в моих беседах с нею, многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть полным выразителем её мнения и упустить что-либо, что, по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для её дела.
Я мог бы теперь начать прямо со случая 13 июля, но нужно прежде исследовать почву, которая обусловила связь между 13 июля и 24 января. Эта связь лежит во всём прошедшем, во всей жизни В. Засулич. Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно рассмотреть её не только для интересов настоящего дела, не только для того, чтобы определить, в какой степени виновна В. Засулич, но её прошедшее поучительно и для извлечения из него других материалов, нужных и полезных для разрешения таких вопросов, которые выходят из пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас нередко производит преступление и преступников. Вам сообщены уже о В. Засулич некоторые биографические данные; они не длинны, и мне придётся остановиться только на некоторых из них.
Вы помните, что с семнадцати лет, по окончании образования в одном из московских пансионов, после того как она выдержала с отличием экзамен на звание домашней учительницы, Засулич вернулась в дом своей матери. Старуха-мать её живёт в Петербурге. В небольшой сравнительно промежуток времени семнадцатилетняя девушка имела случай познакомиться с Нечаевым и его сестрой. Познакомилась она с ней совершенно случайно, в учительской школе, куда она ходила изучать звуковой метод преподавания грамоты. Кто такой был Нечаев, какие его замыслы, она не знала, да тогда ещё и никто не знал его в России; он считался простым студентом, который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не представлявших ничего политического.
По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать ему некоторую, весьма обыкновенную услугу. Она раза три или четыре принимала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев - государственный преступник, и её совершенно случайные отношения к Нечаеву послужили основанием к привлечению её в качестве подозреваемой в государственном преступлении по известному нечаевскому делу. Вы помните из рассказа В. Засулич, что двух лет тюремного заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в Литовском замке и год в Петропавловской крепости. Это были восемнадцатый и девятнадцатый годы её юности.
Годы юности по справедливости считаются лучшими годами в жизни человека; воспоминания о них, впечатления этих лет остаются на всю жизнь. Недавний ребёнок готовится стать созревшим человеком. Жизнь представляется пока издали ясной, розовой, обольстительной стороной, без мрачных теней, без тёмных пятен. Много переживает юноша в эти короткие годы, и пережитое кладёт след на всю жизнь. Для мужчины это пора высшего образования; здесь пробуждаются первые прочные симпатии; здесь завязываются товарищеские связи; отсюда выносится навсегда любовь к месту своего образования, к своей alma mater . Для девицы годы юности представляют пору расцвета, полного развития; перестав быть дитятей, свободная ещё от обязанностей жены и матери, девица живёт полною радостью, полным сердцем. То - пора первой любви, беззаботности, весёлых надежд, незабываемых радостей, пора дружбы; то - пора всего того дорогого, неуловимо-мимолётного, к чему потом любит обращаться воспоминаниями зрелая мать и старая бабушка.
Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали её в стенах Литовского замка и казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной. Два года она не видела ни матери, ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное начальство доходила весть о них, что все, мол, слава Богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-когда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем время от времени в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-музыкальный звон часов Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, человеческого общения - одно сознание, что справа и слева, за стеной, такие же товарищи по несчастью, такие же жертвы несчастной доли.
В эти годы зарождающихся симпатий Засулич, действительно, создала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию - беззаветную любовь ко всякому, кто, подобно ей, принуждён влачить несчастную жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для неё alma mater, которая закрепила эту дружбу, это товарищество.
Два года кончились. Засулич отпустили, не найдя даже никакого основания предать её суду. Ей сказали: «Иди» - и даже не прибавили: «И более не согрешай», потому что прегрешений не нашлось, и до того не находилось их, что в продолжение двух лет она всего только два раза была спрошена и одно время серьёзно думала, в продолжение многих месяцев, что она совершенно забыта. «Иди». Куда же идти? По счастию, у неё есть куда идти, - у неё здесь, в Петербурге, старуха-мать, которая с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадованы свиданием, казалось, два тяжких года исчезли из памяти. Засулич была ещё молода - ей был всего двадцать первый год. Мать утешала её, говорила: «Поправишься, Верочка, теперь всё пройдёт, всё кончилось благополучно». Действительно, казалось, страдания излечатся, молодая жизнь одолеет, и не останется следов тяжёлых лет заключения.
Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни, которая могла казаться земным раем после тюремной жизни; прошло десять дней, полных розовых мечтаний. Вдруг поздний звонок. Не друг ли запоздалый? Оказывается - не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет [он] Засулич, что приказано её отправить в пересыльную тюрьму. «Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду, обо мне дело прекращено судебною палатою и Правительствующим Сенатом». - «Не могу знать, - отвечает надзиратель, - пожалуйте, я от начальства имею предписание взять вас».
Мать принуждена отпустить дочь. Дала ей кое-что: лёгкое платье, бурнус; говорит: «Завтра мы тебя навестим, мы пойдём к прокурору, этот арест - очевидное недоразумение, дело объяснится, и ты будешь освобождена».
Проходит пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной тюрьме с полной уверенностью скорого освобождения.
Возможно ли, чтобы после того, как дело было прекращено судебною властью, не нашедшей никакого основания в чём бы то ни было обвинять Засулич, она, едва двадцатилетняя девица, живущая у матери, могла быть выслана, и выслана, только что освобождённая после двухлетнего тюремного заключения.
В пересыльной тюрьме навещают её мать, сестра; ей приносят конфеты, книжки; никто не воображает, чтобы она могла быть выслана, и никто не озабочен приготовлениями к предстоящей высылке.
На пятый день задержания ей говорят: «Пожалуйте, вас сейчас отправляют в город Крестцы». - «Как отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по крайней мере, дайте мне возможность дать знать родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение, подождите, отложите мою отправку хоть на день, на два, я дам знать родным». - «Нельзя, - говорят, - не можем по закону, требуют вас немедленно отправить».
Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в одном платье, в лёгком бурнусе; пока ехала по железной дороге, было сносно, потом поехала на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был апрель, стало в лёгком бурнусе невыносимо холодно; жандарм снял свою шинель и одел барышню. Привезли её в Крестцы. В Крестцах сдали её исправнику, исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так как вы состоите у нас под надзором».
Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится начать новую жизнь в неизвестном городе. У неё оказывается рубль денег, французская книжка да коробка шоколадных конфет.
Нашёлся добрый человек, дьячок, который поместил её в своём семействе. Найти занятие в Крестцах ей не представилось возможности, тем более что нельзя было скрыть, что она - высланная административным порядком. Я не буду затем повторять другие подробности, которые рассказывала сама Вера Засулич.
Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич, в Харьков. Таким образом, началась её бродячая жизнь - жизнь женщины, находящейся под надзором полиции. У неё делали обыски, призывали для разных опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов и, наконец, о ней совсем забыли.
Когда от неё перестали требовать, чтобы она еженедельно являлась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она летом 1877 года прочитывает в первый раз в газете «Голос» известие о наказании Боголюбова.
Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому известию, сделать ещё маленькую экскурсию в область розги.
Я не имею намерения, господа присяжные заседатели, представлять вашему вниманию историю розги - это завело бы меня в область слишком отдалённую, к весьма далёким страницам нашей истории, ибо история русской розги весьма продолжительна. Нет, не историю розги хочу я повествовать перед вами, я хочу привести лишь несколько воспоминаний о последних днях её жизни.
Вера Ивановна Засулич принадлежит к молодому поколению. Она стала себя помнить тогда уже, когда наступили новые порядки, когда розги отошли в область преданий. Но мы, люди предшествовавшего поколения, мы ещё помним то полное господство розог, которое существовало до 17 апреля 1863 года. Розга царила везде: в школе, на мирском сходе, она была непременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... Существовало сказание - апокрифического, впрочем, свойства - что где-то русская розга была приведена в союз с английским механизмом и русское сечение совершалось по всем правилам самой утончённой европейской вежливости. Впрочем, достоверность этого сказания никто не подтверждал собственным опытом. В книгах наших уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла все страницы. Она составляла какой-то лёгкий мелодический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и шпицрутенов. Но наступил великий день - день, который чтит вся Россия, - 17 апреля 1863 года, - и розга перешла в область истории. Розга, правда, не совсем, но все другие телесные наказания миновали совершенно. Розга не была совершенно уничтожена, но крайне ограничена. В то время было много опасений за полное уничтожение розги, опасений, которых не разделяло правительство, но которые волновали некоторых представителей интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставить без розог Россию, которая так долго вела свою историю рядом с розгой, - Россию, которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего величия едва ли не благодаря розгам. Как, казалось, вдруг остаться без этого цемента, связующего общественные устои? Как будто в утешение этих мыслителей розга осталась в очень ограниченных размерах и утратила свою публичность.
По каким соображениям решились сохранить её, я не знаю, но думаю, что она осталась как бы в виде сувенира после умершего или удалившегося навсегда лица. Такие сувениры обыкновенно приобретаются и сохраняются в малых размерах. Тут не нужно целого шиньона, достаточно одного локона; сувенир обыкновенно не выставляется наружу, а хранится в тайнике медальона, в дальнем ящике. Такие сувениры не переживают более одного поколения.
Когда в исторической жизни народа нарождается какое-либо преобразование, которое способно поднять дух народа, возвысить его человеческое достоинство, тогда подобное преобразование прививается и приносит свои плоды. Таким образом, и отмена телесного наказания оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства человеческого достоинства. Теперь стал позорен тот солдат, который довёл себя до наказания розгами; теперь смешон и считается бесчестным тот крестьянин, который допустил себя наказать розгами.
Вот в эту-то пору, через пятнадцать лет после отмены розог, которые, впрочем, давно уже были отменены для лиц привилегированного сословия, над политическим осуждённым арестантом было совершено позорное сечение. Обстоятельство это не могло укрыться от внимания общества: о нём заговорили в Петербурге, о нём вскоре появляются газетные известия. И вот эти-то газетные известия дали первый толчок мыслям В. Засулич. Короткое газетное известие о наказании Боголюбова розгами не могло не произвести на Засулич подавляющего впечатления. Оно производило такое впечатление на всякого, кому знакомо чувство чести и человеческого достоинства.
Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий всё её позорное и унизительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог без сердечного содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, - этот человек сам должен был перенести на собственной коже всеподавляющее действие унизительного наказания.
Какое, думала Засулич, мучительное истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет самое существенное достояние развитого человека, и не только развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства.
Не с точки зрения формальностей закона могла обсуждать В. Засулич наказание, произведённое над Боголюбовым, но и для неё не могло быть ясным из самих газетных известий, что Боголюбов хотя и был осуждён на каторжные работы, но ещё не поступил в разряд ссыльно-каторжных, что над ним не было ещё исполнено всё то, что, по фикции закона, отнимает от человека честь, разрывает всякую связь его с прошедшим и низводит его на положение лишённого всех прав. Боголюбов содержался ещё в доме предварительного заключения, где жил среди прежней обстановки, среди людей, которые напоминали ему его прежнее положение.
Нет, не с формальной точки зрения обсуждала В. Засулич наказание Боголюбова; была другая точка зрения, менее специальная, более сердечная, более человеческая, которая никак не позволяла примириться с разумностью и справедливостью произведённого над Боголюбовым наказания.
Боголюбов был осуждён за государственное преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень молодых людей, судившихся за преступную манифестацию на площади Казанского собора. Весь Петербург знает об этой манифестации, и все с сожалением отнеслись тогда к этим молодым людям, так опрометчиво заявившим себя политическими преступниками, к этим так непроизводительно погубленным молодым силам. Суд строго отнёсся к судимому деянию. Покушение явилось в глазах суда весьма опасным посягательством на государственный порядок, и закон был применён с подобающей строгостью. Но строгость приговора за преступление не исключала возможности видеть, что покушение молодых людей было прискорбным заблуждением и не имело в своём основании низких расчётов, своекорыстных побуждений, преступных намерений, что, напротив, в основании его лежало доброе увлечение, с которым не совладал молодой разум, живой характер, который дал им направиться на ложный путь, приведший к прискорбным последствиям.
Характерные особенности нравственной стороны государственных преступлений не могут не обращать на себя внимания. Физиономия государственных преступлений нередко весьма изменчива. То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится высокочтимым подвигом гражданской доблести. Государственное преступление нередко - только разновременно высказанное учение преждевременно провозглашённого преобразования, проповедь того, что ещё недостаточно созрело и для чего ещё не наступило время.
Всё это, несмотря на тяжкую кару закона, постигающую государственного преступника, не позволяет видеть в нём презренного, отвергнутого члена общества, не позволяет заглушить симпатий ко всему тому высокому, честному, доброму, разумному, что остаётся в нём вне сферы его преступного деяния.
Мы, в настоящее славное царствование, тогда ещё с восторгом юности, приветствовали старцев, возвращённых монаршим милосердием из снегов Сибири, этих государственных преступников, явившихся энергическими деятелями по различным отраслям великих преобразований, тех преобразований, несвоевременная мечта о которых стоила им годов каторги.
Боголюбов судебным приговором был лишён всех прав состояния и присуждён к каторге. Лишение всех прав и каторга - одно из самых тяжёлых наказаний нашего законодательства. Лишение всех прав и каторга одинаково могут постигнуть самые разнообразные тяжкие преступления, несмотря на всё различие их нравственной подкладки. В этом ещё нет ничего несправедливого. Наказание, насколько оно касается сферы права, изменения общественного положения, лишения свободы, принудительных работ, может, без особенно вопиющей неравномерности, постигать преступника самого разнообразного характера. Разбойник, поджигатель, распространитель ереси, наконец, государственный преступник могут быть без явной несправедливости уравнены постигающим их наказанием.
Но есть сфера, которая не поддаётся праву, куда бессилен проникнуть нивелирующий закон, где всякая законная уравнительность была бы величайшей несправедливостью. Я разумею сферу умственного и нравственного развития, сферу убеждений, чувствований, вкусов, сферу всего того, что составляет умственное и нравственное достояние человека.
Высокоразвитый, полный честных нравственных принципов государственный преступник и безнравственный, презренный разбойник или вор могут одинаково, стена об стену, тянуть долгие годы заключения, могут одинаково нести тяжкий труд рудниковых работ, но никакой закон, никакое положение, созданное для них наказанием, не в состоянии уравнять их во всём том, что составляет умственную и нравственную сферу человека. Что для одного составляет ничтожное лишение, лёгкое взыскание, то для другого может составить тяжкую нравственную пытку, невыносимое, бесчеловечное истязание.
Закон карающий может отнять внешнюю честь, все внешние отличия, с ней сопряжённые, но истребить в человеке чувство моральной чести, нравственного достоинства судебным приговором, изменить нравственное содержание человека, лишить его всего того, что составляет неотъемлемое достояние его развития, никакой закон не может. И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные различия преступника, которые обусловливаются их прошедшим, то является на помощь общая, присущая человеку нравственная справедливость, которая должна подсказать, что применимо к одному и что было бы высшей несправедливостью в применении к другому.
Если с этой точки зрения общей справедливости смотреть на наказание, применённое к Боголюбову, то понятным станет то возбуждающее, тяжёлое чувство негодования, которое овладевало всяким неспособным безучастно относиться к нравственному истязанию над ближним.
С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за нравственное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном наказании Боголюбова.
Что был для неё Боголюбов? Он не был для неё родственником, другом, он не был её знакомым, она никогда не видела и не знала его. Но разве для того, чтобы возмутиться видом нравственно раздавленного человека, чтобы прийти в негодование от позорного глумления над беззащитным, нужно быть сестрой, женой, любовницей?
Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для неё всё; политический арестант не был для Засулич отвлечённое представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам, - представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засулич - она сама, её горькое прошедшее, её собственная история: история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесённая Засулич. Политический арестант был для Засулич - горькое воспоминание её собственных страданий, её тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: что я сделала? что будет со мной? когда же наступит конец? Политический арестант был её собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на её возбуждённой натуре.
В провинциальной глуши газетные известия действовали на Засулич ещё сильнее, чем они могли бы действовать здесь, в столице. Там она была одна. Ей не с кем было разделить свои сомнения, ей не от кого было услышать слово участия по занимавшему её вопросу. Нет, думала Засулич, вероятно, известие неверно, по меньшей мере оно преувеличено. Неужели теперь, и именно теперь, думала она, возможно такое явление? Неужели двадцать лет прогресса, смягчения нравов, человеколюбивого отношения к арестованным, улучшения судебных и тюремных порядков, ограничения личного произвола, неужели двадцать лет поднятия личности и достоинства человека вычеркнуты и забыты бесследно?
Неужели к тяжкому приговору, постигшему Боголюбова, можно было прибавлять ещё более тяжкое презрение к его человеческой личности, забвение в нём всего прошлого, всего, что дали ему воспитание и развитие? Неужели нужно было ещё наложить несмываемый позор на эту, положим, преступную, но, во всяком случае, не презренную личность? Нет ничего удивительного, продолжала думать Засулич, что Боголюбов в состоянии нервного возбуждения, столь понятного в одиночно заключённом арестанте, мог, не владея собой, позволить себе то или другое нарушение тюремных правил, но на случай таких нарушений, если и признавать их вменяемыми человеку в исключительном состоянии его духа, существуют у тюремного начальства другие меры, ничего общего не имеющие с наказанием розгами. Да и какой же поступок приписывают Боголюбову газетные известия? Неснятие шапки при повторной встрече с почётным посетителем. Нет, это невероятно, успокаивалась Засулич; подождём, будет опровержение, будет разъяснение происшествия; по всей вероятности, оно окажется не таким, как представлено.
Но не было ни разъяснений, ни опровержений, ни гласа, ни послушания. Тишина молчания не располагала к тишине взволнованных чувств. И снова возникал в женской экзальтированной голове образ Боголюбова, подвергнутого позорному наказанию, и распалённое воображение старалось угадать, перечувствовать всё то, что мог перечувствовать несчастный. Рисовалась возмущающая душу картина, но то была ещё только картина собственного воображения, не проверенная никакими данными, не пополненная слухами, рассказами очевидцев, свидетелей наказания; вскоре явилось и то и другое.
В сентябре Засулич была в Петербурге; здесь уже она могла проверить занимавшее её мысль происшествие по рассказам очевидцев или лиц, слышавших непосредственно от очевидцев. Рассказы по содержанию своему неспособны были усмирить возмущённое чувство. Газетное известие оказывалось непреувеличенным; напротив, оно дополнялось такими подробностями, которые заставляли содрогаться, которые приводили в негодование. Рассказывалось и подтверждалось, что Боголюбов не имел намерения оказать неуважение, неповиновение, что с его стороны было только недоразумение и уклонение от внушения, которое ему угрожало, что попытка сбить с Боголюбова шапку вызвала крик со стороны смотревших на происшествие арестантов независимо от какого-либо возмущения их к тому Боголюбовым. Рассказывались дальше возмутительные подробности приготовления и исполнения наказания. Во двор, на который из окон камер неслись крики арестантов, взволнованных происшествием с Боголюбовым, является смотритель тюрьмы и, чтобы «успокоить» волнение, возвещает о предстоящем наказании Боголюбова розгами, не успокоив никого этим в действительности, но, несомненно, доказав, что он, смотритель, обладает и практическим тактом, и пониманием человеческого сердца. Перед окнами женских арестантских камер, на виду испуганных чем-то необычайным, происходящим в тюрьме женщин вяжутся пуки розог, как будто бы драть предстояло целую роту; разминаются руки, делаются репетиции предстоящей экзекуции, и в конце концов нервное волнение арестантов возбуждается до такой степени, что ликторы in spe считают нужным убраться в сарай и оттуда выносят пуки розог уже спрятанными под шинелями.
Теперь, по отрывочным рассказам, по догадкам, по намёкам нетрудно было вообразить и настоящую картину экзекуции. Восстала эта бледная, испуганная фигура Боголюбова, не ведающая, что он сделал, что с ним хотят творить; восстал в мыслях болезненный его образ. Вот он, приведённый на место экзекуции и поражённый известием о том позоре, который ему готовится; вот он, полный негодования и думающий, что эта сила негодования даст ему силы Самсона, чтобы устоять в борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания; вот он, падающий под массой пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростёртый на полу, позорно обнажённый, несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться, и над всей этой картиной мерный свист берёзовых прутьев да также мерное исчисление ударов благородным распорядителем экзекуции. Всё замерло в тревожном ожидании стона; этот стон раздался - то не был стон физической боли - не на неё рассчитывали; то был мучительный стон удушённого, униженного, поруганного, раздавленного человеческого достоинства. Священнодействие совершилось, позорная жертва была принесена!.. (Аплодисменты, громкие крики: браво!)
Сведения, полученные Засулич, были подробны, обстоятельны, достоверны. Теперь тяжёлые сомнения сменились ещё более тяжёлой известностью. Роковой вопрос встал со всей его беспокойной настойчивостью. Кто же вступится за поруганную честь беспомощного каторжника? Кто смоет, кто и как искупит тот позор, который навсегда неутешимою болью будет напоминать о себе несчастному? С твёрдостью перенесёт осуждённый суровость каторги, но не примирится с этим возмездием за его преступление, быть может, осознает его справедливость, быть может, наступит минута, когда милосердие с высоты трона и для него откроется, когда скажут ему: «Ты искупил свою вину, войди опять в то общество, из которого ты удалён, войди и будь снова гражданином». Но кто и как изгладит в его сердце воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве; кто и как смоет то пятно, которое на всю жизнь останется неизгладимым в его воспоминании? Наконец, где же гарантия против повторения подобного случая? Много товарищей по несчастью у Боголюбова. Неужели и они должны существовать под страхом всегдашней возможности испытать то, что пришлось перенести Боголюбову? Если юристы могли создать лишение прав, то отчего психологи, моралисты не явятся со средствами отнять у лишённого прав его нравственную физиономию, его человеческую натуру, его душевное состояние; отчего же они не укажут средств низвести каторжника на степень скота, чувствующего физическую боль и чуждого душевных страданий?
Так думала, так не столько думала, как инстинктивно чувствовала В. Засулич. Я говорю её мыслями, я говорю почти её словами. Быть может, найдётся много экзальтированного, болезненно преувеличенного в её думах, волновавших её вопросах, в её недоумении. Быть может, законник нашёлся бы в этих недоумениях, подведя приличную статью закона, прямо оправдывающую случай с Боголюбовым: у нас ли не найти статьи закона, коли нужно её найти? Быть может, опытный блюститель порядка доказал бы, что иначе поступить, как было поступлено с Боголюбовым, и невозможно, что иначе и порядка существовать не может... Быть может, не блюститель порядка, а просто практический человек сказал бы, с полной уверенностью в разумности своего совета: «Бросьте вы, Вера Ивановна, это самое дело: не вас ведь выпороли».
Но и законник, и блюститель порядка, и практический человек не разрешили бы волновавшего Засулич сомнения, не успокоили бы её душевной тревоги. Не надо забывать, что Засулич - натура экзальтированная, нервная, болезненная, впечатлительная; не надо забывать, что павшее на неё, чуть не ребёнка в то время, подозрение в политическом преступлении, подозрение не оправдавшееся, но стоившее ей двухлетнего одиночного заключения, и затем бесприютное скитание надломили её натуру, навсегда оставив воспоминание о страданиях политического арестанта, толкнули её жизнь на тот путь и в ту среду, где много поводов к страданию, душевному волнению, но где мало места для успокоения на соображениях практической пошлости.
В беседах с друзьями и знакомыми, наедине днём и ночью, среди занятий и без дела Засулич не могла оторваться от мысли о Боголюбове, и ниоткуда сочувственной помощи, ниоткуда удовлетворения души, взволнованной вопросами: кто вступится за опозоренного Боголюбова, кто вступится за судьбу других несчастных, находящихся в положении Боголюбова? Засулич ждала этого заступничества от печати, она ждала оттуда поднятия, возбуждения так волновавшего её вопроса. Памятуя о пределах, молчала печать. Ждала Засулич помощи от силы общественного мнения. Из тиши кабинетов, из интимного круга приятельских бесед не выползало общественное мнение. Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие... Но о нём ничего не было слышно.
И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжёлые и тревоги душевные не унимались. И снова и снова, и опять и опять возникал образ Боголюбова и вся его обстановка.
Не звуки цепей смущали душу, но мрачные своды мёртвого дома леденили воображение; рубцы, позорные рубцы резали сердце, а замогильный голос заживо погребённого звучал:
Что ж молчит в вас, братья, злоба,
Что ж любовь молчит?
И вдруг внезапная мысль, как молния, сверкнувшая в уме Засулич: «А я сама! Затихло, замолкло всё о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот крик, я издам его и заставлю его услышать!» Решимость была ответом на эту мысль в ту же минуту. Теперь можно было рассуждать о времени, о способах исполнения, но само дело, выполненное 24 января, было бесповоротно решено.
Между блеснувшей и зародившейся мыслью и исполнением её протекли дни и даже недели; это дало обвинению право признать вменённое Засулич намерение и действие заранее обдуманными.
Если эту обдуманность относить к приготовлению средств, к выбору способов и времени исполнения, то, конечно, взгляд обвинения нельзя не признать справедливым, но в существе своём, в своей основе, намерение Засулич не было и не могло быть намерением хладнокровно обдуманным, как ни велико по времени расстояние между решимостью и исполнением. Решимость была и осталась внезапною, вследствие внезапной мысли, павшей на благоприятную, для неё подготовленную почву, овладевшей всецело и всевластно экзальтированной натурой. Намерения, подобные намерению Засулич, возникающие в душе возбуждённой, аффектированной, не могут быть обдумываемы, обсуждаемы. Мысль сразу овладевает человеком, не его обсуждению она подчиняется, а подчиняет его себе и влечёт за собой. Как бы далеко ни отстояло исполнение мысли, овладевшей душой, аффект не переходит в холодное размышление и остаётся аффектом. Мысль не проверяется, не обсуживается, ей служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. Нет критического отношения, имеет место только безусловное поклонение. Тут обсуживаются и обдумываются только подробности исполнения, но это не касается сущности решения. Следует ли или не следует выполнить мысль - об этом не рассуждают, как бы долго ни думали над средствами и способами исполнения. Страстное состояние духа, в котором зарождается и воспринимается мысль, не допускает подобного обсуждения; так вдохновенная мысль поэта остаётся вдохновенною, не выдуманною, хотя она и может задумываться над выбором слов и рифм для её воплощения.
Мысль о преступлении, которое стало бы ярким и громким указанием на расправу с Боголюбовым, всецело завладела возбуждённым умом Засулич. Иначе и быть не могло; эта мысль как нельзя более соответствовала тем потребностям, отвечала на те задачи, которые волновали её.
Руководящим побуждением для Засулич обвинение ставит месть. Местью и сама Засулич объяснила свой поступок, но для меня представляется невозможным объяснить вполне дело Засулич побуждением мести, по крайней мере мести, понимаемой в ограниченном смысле этого слова. Мне кажется, что слово «месть» употреблено в показании Засулич, а затем и в обвинительном акте как термин наиболее простой, короткий и несколько подходящий к обозначению побуждения, импульса, руководившего Засулич.
Но месть, одна месть была бы неверным мерилом для обсуждения внутренней стороны поступка Засулич. Месть обыкновенно руководится личными счётами с отомщаемым за себя или близких. Но никаких личных, исключительно её интересов не только не было для Засулич в происшествии с Боголюбовым, но и сам Боголюбов не был ей близким, знакомым человеком.
Месть стремится нанести возможно больше зла противнику; Засулич, стрелявшая в генерал-адъютанта Трепова, сознаётся, что для неё безразличны были те или другие последствия выстрела. Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения возможно дешевою ценой, месть действует скрытно, с возможно меньшими пожертвованиями. В поступке Засулич, как бы ни обсуждать его, нельзя не видеть самого беззаветного, но и самого нерасчётливого самопожертвования. Так не жертвуют собою из-за одной узкой, эгоистической мести. Конечно, не чувство доброго расположения к генерал-адъютанту Трепову питала Засулич; конечно, у неё было известного рода недовольство против него, и это недовольство имело место в побуждениях Засулич, но её месть всего менее интересовалась лицом отомщаемым; её месть окрашивалась, видоизменялась, осложнялась другими побуждениями.
Вопрос справедливости и легальности наказания Боголюбова казался Засулич не разрешённым, а погребённым навсегда; надо было воскресить его и поставить твёрдо и громко. Униженное и оскорблённое человеческое достоинство Боголюбова казалось невосстановленным, несмытым, неоправданным, чувство мести - неудовлетворённым. Возможность повторения в будущем случаев позорного наказания над политическими преступниками и арестантами казалась непредупреждённой.
Всем этим необходимостям, казалось Засулич, должно было удовлетворить такое преступление, которое с полной достоверностью можно было бы поставить в связь со случаем наказания Боголюбова и показать, что это преступление явилось как последствие случая 13 июля, как протест против поругания над человеческим достоинством политического преступника. Вступиться за идею нравственной чести и достоинства политического осуждённого, провозгласить эту идею достаточно громко и призвать её к признанию и уверению - вот те побуждения, которые руководили Засулич, и мысль о преступлении, которое было бы поставлено в связь с наказанием Боголюбова, казалось, может дать удовлетворение всем этим побуждениям. Засулич решилась искать суда над её собственным преступлением, чтобы поднять и вызвать обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова.
Когда я совершу преступление, думала Засулич, тогда замолкнувший вопрос о наказании Боголюбова восстанет; моё преступление вызовет гласный процесс, и Россия, в лице своих представителей, будет поставлена в необходимость произнести приговор не обо мне одной, а произнести его, по важности случая, в виду Европы, той Европы, которая до сих пор любит называть нас варварским государством, в котором атрибутом правительства служит кнут.
Этими соображениями и определились намерения Засулич. Совершенно достоверным поэтому представляется то объяснение Засулич, которое притом же дано было ею при самом первоначальном её допросе и было затем неизменно поддерживаемо, что для неё было безразлично, будет ли последствием произведённого ею выстрела смерть или только рана. Прибавлю от себя, что для её цели было бы одинаково безразлично и то, если бы выстрел, очевидно направленный в известное лицо, и совсем не произвёл никакого вредного действия, если бы последовала осечка или промах. Не жизнь, не физические страдания генерал-адъютанта Трепова нужны были для Засулич, а появление её самой на скамье подсудимых и вместе с нею появление вопроса о случае с Боголюбовым.
Было безразлично, совместно существовало намерение убить или ранить; намерению убить не отдавала Засулич никакого особенного преимущества. В этом направлении она и действовала. Ею не было предпринято ничего для того, чтобы выстрел имел неизбежным последствием смерть. О более опасном направлении выстрела она не заботилась. А, конечно, находясь в том расстоянии от генерал-адъютанта Трепова, в каком она находилась, она действительно могла бы выстрелить совершенно в упор и выбрать самое опасное направление. Вынув из кармана револьвер, она направила его так, как пришлось: не выбирая, не рассчитывая, не поднимая даже руки. Она стреляла, правда, в очень близком расстоянии, это делало выстрел более опасным, но иначе она и не могла действовать. Генерал-адъютант Трепов был окружён своею свитою, и выстрел на более далёком расстоянии мог грозить другим, которым Засулич не желала вредить. Стрелять в сторону было совсем дело неподходящее: это сводило бы драму, которая нужна была Засулич, на степень комедии.
На вопросе о том, имела ли Засулич намерение причинить смерть или имела намерение причинить только рану, прокурор остановился с особенной подробностью. Я внимательно выслушал те доводы, которые он высказал, но я согласиться с ними не могу, и они все падают перед соображением о той цели, которую имела В. Засулич. Ведь не отвергают же того, что именно оглашение дела с Боголюбовым было для Веры Засулич побудительною причиною преступления. При такой точке зрения мы можем довольно безразлично относиться к тем обстоятельствам, которые обратили внимание господина прокурора, например, на то, что револьвер был выбран из самых опасных. Я не думаю, чтобы тут имелась в виду наибольшая опасность; выбирался такой револьвер, какой мог удобнее войти в карман; большой нельзя было бы взять, потому что он высовывался бы из кармана, - необходимо было взять револьвер меньшей величины. Как он действовал: более опасно или менее опасно, какие последствия от выстрела могли произойти - это для Засулич было совершенно безразлично. Мена револьверов произведена была без ведения Засулич. Но если даже и предполагать, как признаёт возможным предполагать прокурор, что первый револьвер принадлежит Засулич, то опять-таки перемена револьвера объясняется очень просто: прежний револьвер был таких размеров, что не мог поместиться в кармане.
Я не могу согласиться и с тем весьма остроумным предположением, что Засулич не стреляла в грудь и в голову генерал- адъютанта Трепова, находясь к нему enface , потому только, что чувствовала некоторое смущение, и что только после того, как несколько оправилась, она нашла в себе достаточно силы, чтобы произвести выстрел. Я думаю, что она просто не стреляла в грудь генерал-адъютанта Трепова потому, что она не заботилась о более опасном выстреле; она стреляет тогда, когда ей уже приходится уходить, когда ждать более нельзя.
Раздался выстрел... Не продолжая более дела, которое совершала, довольствуясь вполне тем, что достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде чем успели схватить её, и, отойдя в сторону, без борьбы и сопротивления отдалась во власть набросившегося на неё майора Курнеева и осталась не задушенной им только благодаря помощи других окружающих. Её песня была теперь спета, её мысль исполнена, её дело совершено.
Я должен остановиться на прочтённом здесь показании генерал-адъютанта Трепова. В этом показании сказано, что после первого выстрела Засулич, как заметил генерал Трепов, хотела произвести второй выстрел и что началась борьба: у неё отнимали револьвер. Это совершенно ошибочное показание генерал-адъютанта Трепова объясняется тем весьма понятным взволнованным состоянием, в котором он находился. Все свидетели, хотя также взволнованные происшествием, но не до такой степени, как генерал-адъютант Трепов, показали, что Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы, бросила сама револьвер и не показывала намерения продолжать выстрелы. Если же и представилось генерал-адъютанту Трепову что-либо похожее на борьбу, то это была та борьба, которую вёл с Засулич Курнеев и вели прочие свидетели, которые должны были отрывать Курнеева, вцепившегося в Засулич.
Я думаю, что ввиду двойственности намерения Засулич, ввиду того, что для её намерений было безразлично последствие большей или меньшей важности, что ею ничего не было предпринято для достижения именно большего результата, что смерть только допускалась, а не была исключительным стремлением Засулич, нет оснований произведенный ею выстрел определять покушением на убийство. Её поступок должен быть определён по тому последствию, которое произведено в связи с тем особым намерением, которое имело в виду это последствие.
Намерение было: или причинить смерть, или нанести рану; не последовало смерти, но нанесена рана. Нет основания в этой нанесённой ране видеть осуществление намерения причинить смерть, уравнивать это нанесение раны покушению на убийство, а вполне было бы справедливо считать не более как действительным нанесением раны и осуществлением намерения нанести такую рану. Таким образом, отбрасывая покушение на убийство как неосуществившееся, следовало бы остановиться на действительно доказанном результате, соответствовавшем особому условному намерению - нанесению раны.
Если Засулич должна понести ответственность за свой поступок, то эта ответственность была бы справедливее за зло, действительно последовавшее, а не такое, которое не было предположено как необходимый и исключительный результат, как прямое и безусловное стремление, а только допускалось.
Впрочем, всё это - только моё желание представить вам соображения и посильную помощь к разрешению предстоящих вам вопросов; для личных же чувств и желаний Засулич безразлично, как бы ни разрешился вопрос о юридическом характере её действий, для неё безразлично быть похороненной по той или другой статье закона. Когда она переступила порог дома градоначальника с решительным намерением разрешить мучившую её мысль, она знала и понимала, что она несёт в жертву всё: свою свободу, остатки своей разбитой жизни, всё то немногое, что дала ей на долю мачеха-судьба.
И не торговаться с представителями общественной совести за то или другое уменьшение своей вины явилась она сегодня перед вами, господа присяжные заседатели.
Она была и осталась беззаветною рабой той идеи, во имя которой подняла она кровавое оружие.
Она пришла сложить перед вами всё бремя наболевшей души, открыть перед вами скорбный лист своей жизни, честно и откровенно изложить всё то, что она пережила, передумала, перечувствовала, что двинуло её на преступление, чего ждала она от него.
Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье преступлений и тяжёлых душевных страданий является перед судом общественной совести женщина по обвинению в кровавом преступлении.
Были здесь женщины, смертью мстившие своим соблазнителям; были женщины, обагрявшие руки в крови изменивших им любимых людей или своих более счастливых соперниц. Эти женщины выходили отсюда оправданными. То был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл, на действительную преступность человека. Те женщины, совершая кровавую расправу, боролись и мстили за себя.
В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, - женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей её молодой жизни. Если этот мотив проступка окажется менее тяжёлым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественной безопасности нужно призвать кару законную, тогда - да совершится ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!
Немного страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрёка, без горькой жалобы, без обиды примет она от вас решение ваше и утешится тем, что, может быть, её страдания, её жертва предотвратила возможность повторения случая, вызвавшего её поступок. Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самих мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва.
Да, она может выйти отсюда осуждённой, но она не выйдет опозоренною, и остаётся только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников.