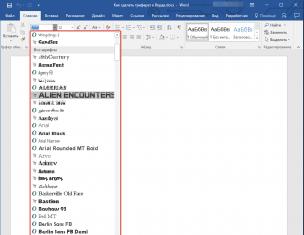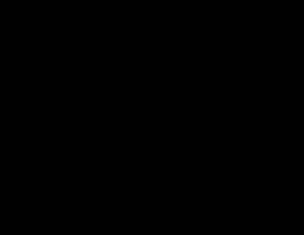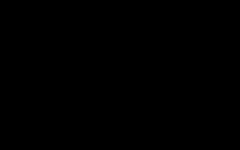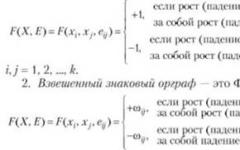Ответ оставил Гость
Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украину!
Н. Гоголь
В XVI веке на украинских землях западнее Днепра хозяйничала польская шляхта. Часть украинской знати приняла католичество, ополячилась, чтобы сохранить и увеличить свои привилегии. Но простой люд упорно сопротивлялся, хранил язык, веру, обычаи предков. Опорой всем стремившимся к независимости была Запорожская Сечь - вольное казачество, обосновавшееся в низовьях Днепра на острове Хортица.
За полверсты до Сечи находилось предместье, в котором жили кузнецы, кожевники, крамари, люди всех наций. Предместье «одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей».
Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней - военных подразделений, «которые очень походили на отдельные, независимые республики». Куренями же назывались
.. жилые помещения. Они были покрыты дерном или войлоком, обнесены небольшими земляными валами, возле некоторых были установлены пушки. Посередине Сечи располагался майдан, где собиралась рада.
В Сечи царил дух демократии. Между запорожцами были товарищеские отношения. Все важнейшие вопросы казацкой общины решались на обшей сходке - раде. На раде казаки выбирали кошевого атамана и старшину: судью, писаря, есаулов. В куренях избирали куренного атамана.
Принимали в Сечь всех, кто сюда приходил. Никто не спрашивал у пришельцев, «откуда они, кто они и как их зовут». Кошевой, к которому они являлись, интересовался только, веруют ли пришедшие во Христа, ходят ли в церковь, и просил их перекреститься.
Казаки не обременяли себя никаким вещами. Всё - «деньги, платья, весь харч, саламата, каша и даже топливо» - хранилось у куренного атамана, который «обыкновенно носил название батька».
Законы общежития в этой своевольной республике были довольно суровыми. Воровство даже какой-нибудь безделицы считалось «поношением всему козачеству». Проворовавшегося привязывали к позорному столбу и дубиной забивали насмерть. Не платившего должника приковывали к пушке, где он сидел до тех пор, пока его не выкупят. Страшная казнь полагалась за смертоубийство. Убийцу опускали в яму, поставив поверх него гроб с телом убитого, и заживо засыпали землей.
Военному искусству в Сечи обучали во время боя. «Юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв». Промежутки же между ними «козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки». Все свободное от битв время «отдавалось гульбе - признаку широкого размета душевной воли». Это было какое-то беспрерывное шумное пиршество. Но когда наступало время битвы, «бесшабашные и веселые между сражениями» казаки преображались в «закаленных в битвах рыцарей», для которых дороже всего на свете боевые товарищи, вера во Христа, свобода и независимость родной земли.
Н. В. Гоголь восхищался Запорожской Сечью и был убежден, что только Сечь с ее республиканским строем формирует гордых, храбрых и вольнолюбивых казаков.
Подробнее: Нравы и обычаи Запорожской Сечи (по повести Н. В, Гоголя «Тарас Бульба») - 7 класс - Русский язык и литература - Сочинения | ЕГЭ
Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сече. Остап и Андрий мало могли заниматься военною школою, несмотря на то что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие имели примерные турниры. Они все время отдавали гульбе - признаку широкого размета душевной воли. Вся Сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но бо"льшая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя; это было просто какое-то бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее, и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на земле, так были смешны и дышали таким глубоким юмором, что нужно было иметь только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смеяться ото всей души. Это не был какой-нибудь пьяный кабак, где бессмысленно, мрачно, искаженными чертами веселия забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Вся разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно,сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки, которые не вынесли академических лоз и которые не вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Здесь было много офицеров из польских войск; впрочем, из какой нации здесь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина.
Остапу и Андрию показалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечу гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:
Здравствуй! что, во Христа веруешь?
Верую! - отвечал приходивший.
И в троицу святую веруешь?
И в церковь ходишь?
А ну перекрестись!
Пришедший крестился.
Ну, хорошо, - отвечал кошевой, - ступай же в который сам знаешь курень.
Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сеча молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Такова была та Сеча, имевшая столько приманок для молодых людей.
Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни.
Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело: он не мог долго оставаться в недеятельности.
Что, кошевой, - сказал он один раз, пришедши к атаману, - может быть, пора бы погулять запорожцам?
Негде погулять, - отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.
Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву.
Не можно ни в Турещину ни в Татарву - отвечал кошевой, взявши опять в рот трубку.
Как не можно?
Так. Мы обещали султану мир.
Да он ведь бусурмен: и бог и Священное писание велит бить бусурменов.
Не имеем нрава. Если б мы не клялись нашею верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было.
Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди, - им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти.
Что ж делать? - отвечал кошевой с таким же хладнокровием, - нужно подождать.
Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась рада и стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным.
Кто смеет бить в литавры? - закричал он.
Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! - отвечали подгулявшие старшины.
Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев.
За кошевым отправились несколько человек и привели его на площадь.
Не бойся ничего! - сказали вышедшие к нему навстречу старшины. - Говори миру речь, когда хочешь, чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов.
Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес:
Панове запорожцы, добрые молодцы! позволит ли господарство ваше речь держать?
Говори, говори! - зашумели запорожцы.
Вот, в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство, - да вы, может быть, и сами лучше это знаете, - что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Притом же, в рассуждении того, есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни раза не бил бусурмана?
Вишь, он хорошо говорит, - сказал писарь, толкнув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою.
Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани бог, я только так это говорю. Притом же у нас храм божий - грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости божией стоит Сеча, а до сих пор не то уже чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Николай, угодник божий, сердега, в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряной рясы нет на нем. Варвара-великомученица только то и получила, что уже в духовной отказали иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти всё еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.
Вишь, проклятый! что это он путает такое? - сказал Бульба писарю.
Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как думаете, панове?
Веди, веди всех! - закричала со всех сторон толпа. - За веру мы готовы положить головы!
Кошевой испугался. Он нимало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир.
Позвольте, панове, речь держать!
Довольно! - кричали запорожцы, - лучшего не скажешь.
Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да если сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли.
Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться, и решили на том, чтобы отправить несколько молодых людей под руководством опытных и старых.
Таким образом, все были уверены, что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве весьма было извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом, как можно было таким гульливым рыцарям и в такой гульливый век пробыть несколько недель без войны?
Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу на противуположный утесистый берег Днепра, где в неприступном тайнике они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела дотоле беспечным народом.
В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Куча состояла из козаков в оборванных свитках. Беспорядочный костюм (у них ничего не было, кроме рубашки и трубки) показывал, что они были слишком угнетены бедою или уже чересчур гуляли и прогуляли все, что ни было на теле. Между ними отделился и стал впереди приземистый, плечистый, лет пятидесяти человек. Он кричал сильнее других и махал рукою сильнее всех.
Бог в помощь вам, панове запорожцы!
Здравствуйте! - отвечали работавшие в лодках, приостановив свое занятие.
Позвольте, панове запорожцы, речь держать!
И толпа усеяла и обступила весь берег.
Слышали ли вы, что делается на гетманщине?
А что? - произнес один из куренных атаманов.
Такие дела делаются, что и рассказывать нечего.
Какие же дела?
Что и говорить! И родились и крестились, еще не видали такого, - отвечал приземистый козак, поглядывая с гордостью владеющего важной тайной.
Ну, ну, рассказывай, что такое! - кричала в один голос толпа.
А разве вы, панове, до сих пор не слыхали?
Нет, не слыхали.
Как же это? Что ж, вы разве за горами живете, или татарин заткнул клейтухом уши ваши?
Рассказывай! полно толковать! - сказали несколько старшин, стоявших впереди.
Так вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святые, как шинки, на аренды?
Так вы не слышали и про то, что уже христианину и пасхи не можно есть, покамест рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою?
Ничего не слышали! - кричала толпа, подвигаясь ближе.
И что ксендзы ездят из села в село в таратайках, в которых запряжены - пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то просто православные христиане. Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христианскую? Вы, может быть, не слышали и об том, что уже из поповских риз жидовки шьют себе юбки?
Стой, стой! - прервал кошевой, дотоле стоявший, углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования. - Стой! и я скажу слово! А что ж вы, враг бы поколотил вашего батька, что ж вы? разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?
Э, как попустили такому беззаконию! - отвечал приземистый козак, - а попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да еще к тому и часть гетманцев приняла их веру.
А гетман ваш, а полковники что делали?
Э, гетман и полковники! А знаете, где теперь гетман и полковники?
Полковников головы и руки развозят по ярмаркам, а гетман, зажаренный в медном быке, и до сих пор лежит еще в Варшаве.
Содрогание пробежало по всей толпе; молчание, какое обыкновенно предшествует буре, остановилось на устах всех, и, миг после того, чувства, подавляемые дотоле в душе силого дюжего характера, брызнули целым потоком речей.
Как, чтобы нашу Христову веру гнала проклятая жидова? чтобы эдакое делать с православными христианами, чтобы так замучить наших, да еще кого? полковников и самого гетмана! Да чтобы мы стерпели все это? Нет, этого не будет!
Такие слова перелетали во всех концах обширной толпы народа. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато распалялись, чтобы уже долго не остыть.
Как, чтобы жидовство над нами пановало?! А ну, паны-браты, перевешаем всю жидову! Чтобы и духу ее не было! - произнес кто-то из толпы.
Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась на предместье, с сильным желанием перерезать всех жидов.
Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок. Но неумолимые, беспощадные мстители везде их находили.
Ясновельможные паны! - кричал один высокий и тощий жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. - Ясновельможные паны! Мы такое объявим вами, что еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!
Ну, пусть скажут! - сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.
Ясные паны! - произнес жид. - Таких панов еще никогда не видывано, - ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете... - Голос его умирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее. Те совсем не наши, что арендаторствуют на Украйне! ей-богу, не наши! то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут тоже. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?
Ей-богу, правда! - отвечали из толпы Шлема и Шмуль, в изодранных яломках, оба белые, как глина.
Мы никогда еще, - продолжал высокий жид, - не соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим! Пусть им черт приснится! Мы с запорожцами - как братья родные...
Как? чтоб запорожцы были с вами братья? - произнес один из толпы. - Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев!
Эти слова были сигналом, жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный высокий оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:
Великий господин, ясновельможный пан! Я знал и брата вашего покойного Дороша. Какой был славный воин! Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турков.
Ты знал брата? - спросил Тарас.
Ей-богу, знал: великодушный был пан.
А как тебя зовут?
Хорошо, я тебя проведу. - Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его. - Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись, а вы, братцы.. не выпускайте жида.
Сказавши это, он отправился на площадь, потому что раздавшийся бой литавров возвестил собрание рады. Несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях, он был несколько доволен представлявшимся широким раздольем для подвигов, и притом для подвигов таких, которые представляли ему мученический венец по смерти.
Вся Сеча, все, что было на Запорожье, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти с войсками прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу.
И вся Сеча вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег; все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного. Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелителъ. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления тихо, с расстановкою, как глубоко знающий свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкве служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест.
Когда все запорожское войско вышло из Сечи, головы всех обратились назад.
Прощай, наша мать! - сказали почти все в одно слово. - Пусть же тебя хранит бог от всякого несчастия!
Проходя предместье, Тарас Бульба увидел с изумлением, что жидок его уже раскинул свою лавочку и продавал какие-то кремешки и всякую дрянь.
Дурень, что ты здесь сидишь? - сказал он ему, - разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?
Молчите, - отвечал жид. - Я пойду за вами и войском и буду продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-богу, так! вот увидите.
Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду.
(продолжение)
Какие времена, такие и нравы.
Нам часто дают идеализированный образ казаков, их нравы, обычаи и т.д., чуть ли не представляя, что надо все это восстановить, и тогда заживем хорошо.
Попробуем разобраться, опять привлекая Гоголя и Сенкевича.
Об особенностях козацкого права серб Юрий Крижанич, посетивший Украину в 1659 году, писал: "хотя козаки и исповедуют православную веру, но нравы и обычаи у них зверские". В условиях отсутствия писанного законодательства и неразвитости политических институций основную роль в правовой организации козаков играли запреты, действовавшие по принципу табу и объединявшиеся в две основные группы:
а) запреты, относящиеся к убийству;
б) сексуальные запреты.
У Гоголя:
Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе - признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, - резкая черта, которою отличается доныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь - и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностию того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина .
Судебная практика, как правило, ограничивалась самосудом не по законам, а по понятиям :
Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи и немногосложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Не платившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом.
Янкель... Бедный Янкель...
Читатель помнит, как под воздействием слухов о том, что «ксендзы ездят теперь по всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте! Еще не то расскажу: уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Вот какие дела водятся на Украине, Панове!», - были утоплены в Днепре все подвернувшиеся под казацкую руку жиды, за исключением Янкеля.
Янкель был оставлен в живых как залог экономического сотрудничества наций, поскольку он выкупил Дороша, брата Бульбы из турецкого плена за 800 цехинов. Вездесущий, как Фигаро, всезнающий и всемогущий Янкель, балансирующий на острие бритвы ради выгоды и ежедневно рискующий быть повешенным «как собака», один из самых интересных персонажей этой повести. Здесь он как бы противопоставляется Бульбе с его разовым героизмом. В сущности, вся жизнь Янкеля в этом враждебном ему разбойничьем вертепе, именуемом Сечью, есть непрерывный героизм.
Образ «жида Янкеля», которого Тарас спасает во время еврейского погрома, и который отвечает ему за это благодарностью и тайно везет в Варшаву на казнь сына - один из самых удачных в фильме. От себя замечу, все это очень реалистично. На собственном опыте знаю, что евреи - один из самых благодарных народов на свете, помнящих даже небольшое добро, которое ты им сделаешь. Увы, из истории не выбросишь ни слова, если это история, а не пропаганда. Были и православные церкви в аренде у евреев, были и еврейские погромы. Были и казаки, спасавшие евреев. И евреи, спасавшие казаков. Реального Богдана Хмельницкого, например, когда поляки отобрали у него хутор и покушались на его жизнь, спас его приятель - «жид», как тогда говорили, Яков Собиленко. Этот сюжет есть в одной из еврейских хроник, изданных в Венеции во времена Хмельнитчины. Будет он скоро и в моей новой книге о великом гетмане".
("Истории от Олеся Бузины. Русская сила «Тараса Бульбы»" газета "Сегодня" http://www.segodnya.ua/news/14045051.html
От еврейского вымогательства откупщиков страдало православное крестьянство, но не казаки, равнодушные к любой религии.
Относительно религиозности казаков известно следующее. В XVII в. и Запорожской Сечи еще не было ни одной церкви и ни одного священника. Встреча с попом у казаков считалась дурным предзнаменованием. Ярый защитник православия киевский митрополит Петр Могила всенародно обзывал запорожцев неверующими, а защитник казаков у поляков Адам Кисель - религиозными нулями. В своих разбоях казаки обходились с православными церквами также, как и с католическими, т. е. попросту грабили церковную утварь. Хотя Гоголь Н. В. в «Тарасе Бульбе» и изображает запорожцев защитниками православия, но скорее всего это художественное преувеличение. В Смутное время донские и запорожские казаки во главе с атаманом Заруцким, слеедуя аа звездой Лжедмитрия всласть пограбили православную Русь.
Казачье богословие в действии хорошо описано в Тарасе Бульбе:
Пришедший являлся только к кошевому; который обыкновенно говорил:
- Здравствуй! Что, во Христа веруешь?
- Верую! - отвечал приходивший.
- И в троицу святую веруешь?
- Верую!
- И в церковь ходишь?
- Хожу!
- А ну, перекрестись!
Пришедший крестился.
- Ну, хорошо, - отвечал кошевой, - ступай же в который сам знаешь курень.
Этим оканчивалась вся церемония.
После смерти короля Владислава 20 мая 1648 г. Богдан Хмельницкий оглашает манифест, призывающий украинский народ присоедини его войску в освободительной войне с ляхами. История борьбы сии против Польши и присоединения ее к России хорошо известны. Украина была залита кровью. Сохранены свидетельства потрясающей жестокости как в отношении поляков, так и в отношении казаков. больше всех, во-видимому, досталось евреям, причем не арендаторам, естественно, они попрятались, а простой бедноте. Есть описания того, как детей Израиля сжигали живьем, сдирали кожу, зарывали живыми в вспарывали животы беременным, выбрасывали утробных младенцев и зашивали туда кошек. Если же несчастные женщины разрывали отрубали руки. Впрочем, такие же жестокости достались на долю поляков, и украинцев. По некоторым данным во время этой войны на Украине были поголовно вырезаны все поляки и все евреи.
Сенкевич «Огнем и мечом»:
Под Крутой Балкой передовые отряды наткнулись на польский обоз.
Пану Скшетускому не привелось увидеть битву, ибо вместе с обозом он остался в Корсуне. Захар поселил его на городской площади в доме пана Забокрицкого, которого чернь незадолго до того повесила, и поставил охрану из остатков миргородского куреня, потому что толпа неутомимо грабила дома и убивала каждого, кого полагала ляхом. Сквозь выбитые окна наблюдал пан Скшетуский толпы пьяного сброда, перемазанного кровью, с засученными рукавами метавшегося от дома к дому, от лавки к лавке, обыскивавшего все углы, чердаки, навесы; время от времени страшные вопли возвещали, что обнаружен шляхтич или еврей, мужчина, женщина, ребенок. Жертву вытаскивали на площадь и зверски измывались над нею. Пьянь затеивала драку из за разорванных в куски останков, с наслаждением размазывала кровь по своим лицам, обкручивала шеи дымящимися внутренностями. Мужики, схватив еврейских детей за ноги, разрывали их надвое под безумный гогот толпы. Совершались нападения и на дома охранявшиеся, где содержались именитые пленники, оставленные в живых ради немалого выкупа. Тогда запорожцы или татары, составлявшие охрану, толпу сдерживали, колотя нападавших прямо по головам древками пик, луками или плетьми из бычачьей кожи. Подобное происходило и у дома, где находился Скшетуский. Захар велел учить холопей нещадно, и миргородцы с удовольствием приказ выполняли, ибо хотя низовые в пору мятежей и пользовались охотно помощью черни, но презирали ее куда больше, чем шляхту. Недаром считали они себя «благорожденными казаками». Сам Хмельницкий впоследствии неоднократно дарил множество простого народа татарам, которые гнали ясырей в Крым, где продавали в Турцию или Малую Азию.
Так что толпа бесчинствовала на площади и в конце концов дошла до такого исступления, что люди принялись убивать друг друга. Дело шло к вечеру. Была целиком подожжена одна сторона площади, церковь и дом униатского попа. По счастью, ветер относил огонь в поле и мешал пожару распространиться. Однако громадное пламя освещало площадь не слабее солнечных лучей. Стало нестерпимо жарко. Издалека доносился страшный грохот пушек - как видно, битва под Крутой Балкой становилась все упорнее.
Прошло несколько дней. Небеса, казалось, обрушились на Речь Посполитую. Желтые Воды, Корсунь, разгром всегда победоносных в борьбе с казаками коронных войск, пленение гетманов, страшный пожар, объявший Украину, резня, неслыханные от начала мира зверства - все это стряслось так неожиданно, что люди просто поверить не могли, чтобы столько бедствий сразу могло выпасть на долю одной страны. Кое‑кто и не верил, кое‑кто оцепенел от ужаса, иные лишились рассудка, иные пророчили пришествие антихриста и неотвратимо близкий Страшный суд. Нарушились все общественные связи, все взаимоотношения, как человеческие, так и родовые. Пресеклась всяческая власть, различия исчезли между людьми. Преисподняя спустила с цепей все преступления и пустила их гулять по свету; убийство, грабеж, вероломство, озверение, насилие, разбой, безумие заступили место прилежания, честности, веры и совести. Казалось, отныне человечество уже не добром, но злом жить станет, что извратились сердца и умы, что полагают теперь святым прежде бывшее мерзким, а мерзким - прежде считавшееся святым. Солнце не сияло больше в небе, ибо сокрыто было дымами пожарищ, ночами вместо звезд и месяца светили пожоги. Горели города, деревни, храмы, усадьбы, леса. Люди перестали пользоваться человеческой речью, они или стенали, или по‑собачьи выли. Жизнь потеряла всякую цену. Тысячи и тысячи гибли без ропота и поминовения. А из всех этих крушений, смертей, стонов, дымов и пожаров вырастал все выше и выше один человек, становясь грозней и громадней, почти заслонив уже свет белый и отбрасывая тень от моря до моря.
Это был Богдан Хмельницкий.
Двести тысяч вооруженных и окрыленных победами людей были теперь готовы на все, стоило ему пошевелить пальцем. Городовые казаки присоединялись к нему во всех городах. Край от Припяти и до рубежей степных был в огне. Восстание ширилось в воеводствах Русском, Подольском, Волынском, Брацлавском, Киевском и Черниговском. Войско гетмана росло ото дня ко дню. Никогда еще Речь Посполитая не выставляла даже против самого грозного врага и половины тех сил, какими сейчас располагал он. Равных не имел в своем распоряжении и немецкий император. Буря переросла все ожидания. Сперва сам гетман не отдавал себе отчета в собственной мощи и не понимал, сколь высоко он вознесся. Он пока еще декларировал по отношению к Речи Посполитой лояльность, законопослушание и верность, ибо не осознал, что понятия эти, как ничего не значащие, уже мог топтать. Однако по мере развития событий укреплялся в нем и тот безмерный, безотчетный эгоизм, равного которому не знала история. Ощущение зла и добра, преступления и добродетели, насилия и справедливости смешались в понятиях Хмельницкого в одно с ощущением собственной обиды и своекорыстия. Тот был для него добродетелен, кто держал его сторону; тот преступник, кто ему супротивничал. Он готов был и солнцу пенять, полагая личным против себя злоумышлением, если оно не светило тогда, когда ему, Хмельницкому, бывало это необходимо. Людей, события и целый мир он подгонял к собственному «я». И, несмотря на всю хитрость, на все лицемерие гетмана, были некие чудовищные благие намерения в таковом его подходе. Из них проистекали не только все его прегрешения, но и поступки добрые, ибо насколько не знал он удержу в издевательствах и жестокостях по отношению к врагу, настолько умел быть благодарен за все, пусть даже случайные, услуги, лично ему оказанные.
Лишь будучи пьян, забывал он о благодетельстве и, рыча в безумии, отдавал с пеною на устах кровавые приказы, о которых потом сожалел. А по мере того, как росли его успехи, пьяным он бывал все чаще, ибо все большая охватывала его тревога. Казалось, триумфы вознесли его на такие высоты, на какие он сам возноситься не намеревался. Могущество его, изумлявшее других, изумляло и его самого. Исполинская рука мятежа, увлекши гетмана, несла его с молниеносной быстротой и неотвратимостью, но куда? Как всему этому суждено было завершиться? Затеяв смуту ради личных своих обид, этот казацкий дипломат не мог не предполагать, что после первых успехов или даже поражений он начнет переговоры, что ему предложат прощение, удовлетворение обид и возмещение убытков. Он хорошо знал Речь Посполитую, терпеливость ее, безбрежную как море, ее милосердие, не знающее границ и меры, проистекавшее вовсе не из слабости, ибо даже и Наливайке, окруженному уже и обреченному, предлагалось прощение. Но теперь, после победы у Желтых Вод, после разгрома гетманов, после разгула усобицы во всех южных воеводствах, дело зашло слишком далеко; события переросли всяческие ожидания - теперь борьба пойдет не на жизнь, а на смерть.
Но на чьей же стороне будет победа?
Хорошо, пусть это пропаганда польского националиста Сенкевича. Но куда деть исторические свидетельства?
В ходе восстания против польского владычества да, действительно имела место в 1648-1649г. г. массовая резня еврейского населения. Это было связано с тем, что множество евреев служили у польских дворян, владевших землями в Украине. Всего за этот период было убито порядка 100тыс. человек. Вот как современник описывает происходившее:
"...С некоторых евреев сдирали кожу, а их тела скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они попадали под колеса телег и копыта лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали, как рыбу. Вспарывали животы беременных женщин, вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым разрезали животы и сажали туда живых кошек, отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не могли их вытащить.. . и не было такой смерти, на которую бы ни обрекали их...».

"Еврейский летописец Натан Гановер писал: "С одних казаки сдирали кожу, а мясо кидали собакам; другим наносили тяжелые раны, но не добивали, а бросали их на улицу, чтобы они медленно умирали; многих же закапывали живьем. Грудных младенцев резали на руках матерей, а многих разрывали как рыбу. Беременным женщинам распарывали животы, вынимали ребенка и хлестали им по лицу матери, а иным вкладывали в живот живую кошку, зашивали живот и обрубали несчастным руки, чтобы они не могли вытащить кошку. Иных детей прокалывали пикой, жарили на огне и подносили матерям, чтобы они отведали их мяса. Иногда сваливали кучи еврейских детей и делали из них переправы через речки для проезда... Татары же брали евреев в плен; их жен они насиловали на глазах у мужей, а красивых забирали себе в качестве слуг или наложниц. Подобные жестокости казаки творили повсюду, также над поляками, в особенности над их священниками". Русский историк девятнадцатого века Н. Костомаров писал: "Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменою. Свитки Закона были извлекаемы из синагог: казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землею... В одном месте казаки резали иудейских младенцев и перед глазами их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер (что можно есть) и треф (чего нельзя есть), и об одних говорили: это кошер — ешьте, а о других: это треф — бросайте собакам! " (Ф. Кандель "Очерки времён и событий").
Особый резонанс вызвало поголовное уничтожение казаками Хмельницкого еврейского населения Немирова и Тульчина в июне 1648г. В сентябре 1650 г. войско Хмельницкого совершило поход в Молдавию, сопровождавшийся грабежом и резней еврейского населения. В 1653 г. сын Хмельницкого Тимош совершил с казацким отрядом новый поход в Молдавию, при этом произошла страшная резня евреев в Яссах, описанная в дневнике христианского автора-сирийца, Павла Алеппского.
Многие евреи, которые не были уничтожены в той резне, были проданы в рабство (в основном на Константинопольском рынке рабов) . Много лет подряд еврейские общины Европы собирали деньги для выкупа и освобождения этих рабов.
Хмельницкий знал о погромах еврейского населения и нисколько не противился им. Мстя полякам и евреям, казаки расправлялись с ними крайне жестоко и беспощадно. Большую роль в жестокостях сыграли также татары — союзники Хмельницкого. Большое количество пленных евреев было продано на рынках рабов в Стамбуле вскоре после восстания. Точное число жертв неизвестно и, скорее всего, так и не будет достоверно установлено. Тем не менее, практически все источники соглашаются с фактом почти полного исчезновения еврейских общин на территории охваченной восстанием. Сотни еврейских общин были атакованы (более 300 из них были полностью уничтожены) и, по меньшей мере, 50% украинских евреев из общего числа оцениваемого в приблизительно 60,000 были убиты или угнаны в турецкое рабство. Необходимо также отметить, что в течение двадцати лет после восстания польское королевство подверглось ещё двум разрушительным войнам, приведшим к большому числу еврейских жертв (Война со шведами «Потоп» и Русско-польская война (1654-1667); в это время потери еврейского населения оцениваются, по меньшей мере, в 100,000 человек.
1648, 16 мая - Началось бегство еврейского населения из Белой Церкви (Киевская область), Паволочи, Чуднова, Любара (все — Житомирская область) в укрепленные города Полонное, Заславль (ныне Изяслав), Староконстантинов (все — Хмельницкая область), Острог (Ровенская область). Натан Гановер писал: "И вот опять началось бегство. Кто имел лошадь и повозку — уезжал, остальные брали жену и детей и убегали, бросая дом с имуществом... Лошади с повозками шли в три ряда по всей дороге от Острога до города Дубно, на протяжении семи верст... По пути нас нагнали трое верховых и сказали: "Что вы тащитесь так медленно? Ведь враги догоняют нас, сейчас они в Межиричах, откуда мы едва спаслись". Тогда началась небывалая паника среди наших братьев..., многие женщины и мужчины растеряли детей в суматохе и убежали в леса и пещеры".
1648, 31 мая — Резня казаками Хмельницкого евреев города Немирова. Казаки подошли к городу под польскими флагами, а потому были свободно впущены. Погибли 6000 евреев.
1648, 16 июня - Гибель евреев Тульчина. Осада этого города, находившегося на правом берегу Южного Буга, началась вечером 8 июня; вскоре он пал, а 12 июня капитулировала и крепость на левом берегу, где евреев (в том числе беженцев из других городов) было значительно больше, чем поляков; после переговоров с казаками, которые обещали сохранить осажденным жизнь, поляки во главе с комендантом Четвертинским (православным по вероисповеданию) сдались и согласились выплатить контрибуцию. Евреев четыре дня держали под стражей, а 16 июня толпа крестьян из окрестных сел учинила над ними расправу; позднее были истреблены и поляки. (Так в "Еврейской электронной энциклопедии" http://www.eleven.co.il/article/15408
"В городе Тульчине Брацлавского воеводства шестьсот польских солдат и полторы тысячи евреев заперлись в укрепленной крепости. Поляки и евреи дали друг другу клятву отстоять город и не вступать в переговоры с казаками. Вместе с солдатами евреи стреляли с городской стены и даже бросались в атаку, преследуя врага. И тогда казаки, убедившись, что они не могут взять город, обещали полякам пощадить их, если те выдадут им деньги и имущество евреев. Евреи, узнав о предательстве, хотели перебить поляков, но глава местной иешивы рабби Аарон удержал их от этого, чтобы не навлечь на евреев ненависть всего польского народа. "Лучше погибнем, — говорил он, — как погибли наши немировские братья, но не подвергнем опасности наших братьев во всех местах их рассеяния". Войдя в город, казаки сначала забрали имущество евреев, а затем загнали их в сад, поставили знамя и объявили: "Кто хочет принять крещение, пусть станет под это знамя и останется жив!" Никто не согласился на измену, и казаки перерезали полторы тысячи человек, оставив в живых только десять раввинов — для выкупа. После этого они заявили полякам: "Как вы поступили с евреями, так и мы с вами поступим". И перерезали всех. С этого момента, говорит еврейский летописец, поляки уже держались союза с евреями, временными братьями по страданию, и не изменяли им". (Так у Ф. Канделя)
1648, 15 июля — В результате перехода украинцев города Бар на сторону Хмельницкого; жившие в городе евреи и укрывавшиеся в нем беженцы из близлежащих Могилева (Могилев-Подольский) и Верховки (оба — Винницкая область) погибли.
1648, 22 июля - Истреблены евреи, находившиеся в крепости Полонное, которую казаки взяли благодаря содействию части гайдуков (украинцев), служивших в отрядах польских магнатов.
1648, 23 сентября — Казаки Богдана Хмельницкого захватили городок Пилавец на Украине и устраили массовую резню евреев.
1648, 5 октября — Осада Львова войсками Хмельницкого, взамен штурма он предложил горожанам выдать евреев. Те не согласились. И Хмельницкий ограничился выкупом.
(продолжение следует)
Здравствуй, Козолуп!» – «Откуда бог несет тебя, Тарас?» – «Ты как сюда зашел, Долото?» – «Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно; и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»
Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе – признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, – резкая черта, которою отличается доныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь – и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были и те, которые
выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. - Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! - говорил он, остановивши коня. В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей. Наконец они миновали предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: "Здравствуйте, панове!" - "Здравствуйте и вы!" - отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну! Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки: он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши шапку чертом и вскинувши руками. Он кричал только: "Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!" И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и, вдруг опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. "Да сними хоть кожух! - сказал наконец Тарас. - Видишь, как парит!" - "Не можно!" - кричал запорожец. "Отчего?" - "Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью". А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка; все пошло куда следует. Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком. - Эх, если бы не конь! - вскрикнул Тарас, - пустился бы, право, пустился бы сам в танец! А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею Сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: "А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!" - "Откуда бог несет тебя, Тарас?" - "Ты как сюда зашел, Долото?" - "Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?" И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно; и тут понеслись вопросы: "А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?" И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: "Добрые были козаки!" III Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да