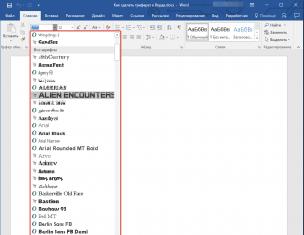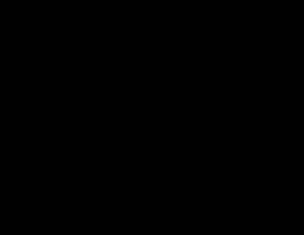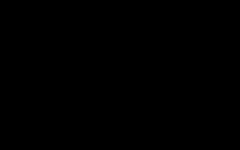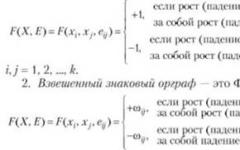Группа из 7-ми французских поэтов, которую возглавлял Пьер де Ронсар и просуществовавшая с 1550 по 1585 год.
При создании группы он взял за образец александрийскую Плеяду, включавшую 7 знаменитых греческих поэтов.
Манифестом группы стал трактат Жоашена дю Белле 1549 года: Защита и прославление французского языка / La Deffence et illustration de la langue francoyse.
7 поэтов первые стали писать стихи по-французски, а не на латыни или греческом.
«Плеяда - поэтическая школа, деятельность которой протекала в третьей четверти XVI века, а влияние оставалось преобладающим до конца столетия.
В Плеяду входили учёный-гуманист Жан Дора (1508-1588) и его ученики и последователи - Пьер де Ронсар (1524-1585), Жоашен Дю Белле (1522-1560), Жан Антуан де Баиф (1532-1589), Этьен Жодель (1532-1573), Реми Белло (1528-1577), Понтюс де Тиар (1521-1605); к ней примыкали также Жак Пелетье дю Ман (1517-1582), Гийом Де-зотель (1529-1581), Жан де Лаперюз (1529-1554) и др.
Историко-литературная роль Плеяды заключалась в том, что она решительно ввела в поэзию гуманистические представления и идеалы. Не порывая с традиционалистским типом мышления как таковым, со сверхличными ценностями и идеалами, Плеяда - через голову сложившейся средневековой поэтической традиции - обратилась к традициям античной культуры и предприняла попытку её успешной реставрации на почве культуры XVI века. Сравнение поэтики Плеяды с поэтикой «великих риториков» позволяет понять новаторский характер эстетических принципов школы Ронсара и Дю Белле .
Сама по себе античная образность давно и прочно входила в арсенал поэтической культуры «великих риториков», но функционировала она во многом иначе, чем у поэтов Плеяды. Авторы XV века не случайно рассматривали своё творчество как «вторую риторику», ибо разницу между оратором и поэтом они видели только в средствах выражения (поэт пользуется стихотворным метром, а оратор - нет) и в материале (поэт по преимуществу мыслит в аллегорико-мифологических образах), но отнюдь не в цели. Цель мыслилась единой - убедить и наставить аудиторию в христианских истинах, используя при этом все возможные приёмы из риторического арсенала. В отличие от ритора, однако, поэт должен был облечь свои поучения в образную форму, для чего и пользовался богатейшим запасом античных мифов.
Так, поэт не мог просто сказать, что свет истины разгоняет мрак невежества, он должен был «опоэтизировать» эту мысль, т. е. обязательно олицетворить её, скажем, в виде борьбы Аполлона с Пифоном. Под «поэтическими» историями понимались собственно мифологические истории, рассказанные в стихотворной форме. Всё дело, однако, в том, что античные мифы представлялись «великим риторикам» заведомыми «выдумками», языческими «баснями», которые играли роль очень удобной, но совершенно условной и декоративной «упаковки» для христианского содержания.
Поэт же воспринимался как своего рода философ, служитель моральной истины - но именно и только служитель, поскольку истина даруется божественным откровением и разлита в мире объективно.
Согласно такому воззрению, поэт, строго говоря, сам ничего не создаёт, он только раскрывает, читает и расшифровывает «книгу мира», в которой всё уже заранее написано, и сообщает прочитанное своей аудитории.
Поэзия «великих риториков» имела сугубо рационалистическую, утилитарную и учительную направленность. Эти черты в целом не были чужды и Плеяде, однако она существенно переосмыслила их, что прежде всего проявилось в теоретическом манифесте школы, написанном Жоашеном Дю Белле , - в «Защите и прославлении французского языка» (1549).
Основная мысль манифеста заключается в том, что античность создала вечные и универсальные эстетические образцы, которые являются абсолютным критерием для всех последующих времен и народов. Поэтому создать что-либо достойное в поэзии можно лишь путем приближения к этим образцам, т. е. путем «подражания» древним и «состязания» с ними. По этому пути ещё в XIV веке пошли итальянцы и не ошиблись, доказательством чему служит созданная ими блестящая литература. Подражать, следовательно, можно как непосредственно античной, так и итальянской гуманистической культуре. Это - общее место французской ренессансной мысли. Однако если неолатинские поэты предпочитали состязаться с римлянами на их собственном языке, то Дю Белле поставил во главу угла убеждение, что путём «возделывания» можно поднять и «французский диалект» до уровня латыни, т. е. создать национальную поэзию, способную сравниться с древней и даже превзойти её.
Реформа поэзии касалась в первую очередь двух областей - лексической и жанровой. Что касается обогащения лексики, то здесь Дю Белле предлагал два основных пути:
1) заимствования (как из древних языков, так и из языков различных современных профессий) и
2) создание неологизмов (в частности, на итальянской основе).
Что же до жанров, то тут Дю Белле бескомпромиссно отверг всю средневековую систему жанров, и это касалось как лирических (баллада, королевская песнь, лэ, виреле, дизен и т. п.), так и драматических (моралите, фарс и др.) жанров, на смену которым должны были прийти возрождённые жанры античной литературы - ода, элегия, эпиграмма, сатира, послание, эклога (в лирике), трагедия и комедия (в драматургии).
Эта реформа, осуществленная Плеядой, явилась поворотным пунктом во французской литературе, определив её облик не только в XVI, но и XVII и XVIII веках, ибо дело шло о чём-то гораздо большем, чем о простой смене «жанровых форм», поскольку мы видели, что в средневековой поэзии жанр был не чисто композиционным образованием, но предполагал свою тему, свои способы её трактовки, свою систему изобразительных средств и т. п., т. е. выступал как преднаходимый смысловой и образный язык, как та готовая «призма», через которую поэт только и мог смотреть на действительность. Речь при этом идёт о принципиальной особенности не только средневековой, но и любой (в том числе и античной) традиционалистской культуры.
Автор, принадлежащий к такой культуре, никогда не относится к изображаемому им предмету «непосредственно», опираясь исключительно на свой индивидуальный опыт, но напротив - только опосредованно, через уже существующее слово об этом предмете, которое как раз и закрепляется в системе смысловых и изобразительно-выразительных клише, в своей совокупности составляющих данную культуру.
Выбирая жанр, поэт выбирал не только строфическую и т. п. «форму», он выбирал смысловой язык, на котором ему предстояло заговорить о мире».
Косиков Г.К. , Творчество поэтов Плеяды и драматургия Ренессанса / Собрание сочинений, Том 1: Французская литература, М., Центр книги Рудомино, 2011 г., с. 101-103.
December 20th, 2013 , 09:03 pm

Плеяды, или Семь сестёр, имеющие еще старинное русское название - Стожары, а японское название – Субару,- рассеянное скопление в созвездии Тельца; одно из ближайших к Земле и одно из наиболее заметных для невооружённого глаза звёздных скоплений.
Плеяды хорошо видны зимой в северном полушарии и летом в южном полушарии.
Яркие синие звезды Плеяд как бы погружены в газово-пылевую туманность и подсвечивают ее, отчего это скопление звезд кажется волшебным и загадочным объектом, плывущим во Вселенной в облаках летящей за ним газовой фаты.

Совсем недавно группа астрономов обнаружила, что туманность формируется многочисленными облаками газа, взаимодействующими вместе в одной и той же области.
Даже далекие от астрономии люди, вглядываясь в звездное небо, выделяют это превосходное звездное скопление среди других узоров звездного неба. Плеяды имеют характерную форму, сходную с маленьким ковшиком с ручкой, поэтому иногда Плеяды ошибочно принимают за звезды Большой Медведицы.

Плеяды были известны с древности многим культурам в мире.
В Древней Греции Плеяды олицетворяли мифологических сестёр Плеяд, от которых и получили современное название. Наиболее раннее упоминание о Плеядах содержится в знаменитой эпической поэме «Илиада» Гомера (около 750 го до н.э.). Также три ссылки на Плеяды содержится в Библии.

Венера и Плеяды
Для викингов Плеяды были семью курами Фрейи, отчего во многих европейских языках они сравниваются с наседкой с цыплятами.
На Плеядах основывался календарь древних ацтеков Мексики и Центральной Америки. Их календарный год начинался в день, когда жрецы впервые замечали скопление над восточным горизонтом непосредственно перед тем, как лучи восходящего солнца начинали заслонять свет звёзд.

Уникальный диск из Небры был обнаружен с помощью металлоискателя в местечке Небра в 60 км к западу от Лейпцига. Этот бронзовый диск диаметром 30 см, покрытый патиной цвета аквамарина, с вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, в том числе скопление Плеяд, датируется 1600-1560 гг. до н. э. Диск использовался для измерения угла между точками восхода и захода солнца во время солнцестояний.
ЛЕКЦИЯ 9
Поэзия Плеяды: богатство и красота человеческих чувств. П. Ронсар. Ж. Дю Белле. Литература периода гражданских войн. А. д"Обинье: кризис гуманистических идеалов.
В середине XVI в. несколько молодых поэтов-гуманистов из дворянских семейств, совместно изучавших античную, главным образом эллинскую, литературу, образовали кружок, или "Бригаду", как они себя называли. Когда в 1556 г. их число возросло до семи, они стали торжественно именовать себя Плеядой (семизвездием), переняв это название у кружка древнегреческих поэтов, руководимого Феокритом. На небе французской поэзии засияли новые яркие звезды. Конечно, не все поэты Плеяды были в равной мере одарены. Наиболее талантливыми из них являлись Ронсар и Дю Белле. Это были звезды первой величины. Но и такие не столь яркие дарования, как Баиф, Белло или Жодель, все же принадлежат к числу наиболее привлекательных писателей французского Ренессанса. В творчестве Плеяды французская гуманистическая поэзия достигла большой высоты. Мы вправе говорить о втором интенсивном цветении ренессансной литературы Франции. Поначалу впереди шла проза Деперье, Маргарита Наваррская, Рабле). То было первое и при этом бурное цветение. Потом пришел черед поэзии. Пальма первенства перешла к Плеяде, оказавшей огромное влияние на всю современную французскую поэзию и кое в чем предвосхитившей литературу классицизма.
Следует, однако, иметь в виду, что деятельность Плеяды протекала в условиях более трудных. Католическая реакция стремительно наступала. Страну раздирали глубокие противоречия. Гуманизм отшатнулся от Реформации. В 1562 г. началась религиозная война, тянувшаяся с небольшими перерывами до конца столетия. Все это привело к тому, что гуманистическое вольномыслие в значительной мере утратило свой былой размах. Великаны Рабле превратились в обычных людей. Умолк их оглушительный хохот. Дух раблезианства отлетел от французской литературы. Поэты новой школы не посягали на католицизм и его догматы. Их религией была религия короля, в котором они видели воплощение национального единства. Но они все-таки не были так бесконечно далеки от Рабле, как это может показаться на первый взгляд. Подобно Рабле, они преклонялись перед великим наследием классической древности и горячо любили свою отчизну.
Главная забота поэтов Плеяды заключалась в том, чтобы создать поэзию, достойную новой Франции. О том, какой именно должна быть новая гуманистическая поэзия, пишет Жоашен Дю Белле в трактате "Защита и прославление французского языка"(1549), ставшем манифестом Плеяды. Молодой поэт призывает современников решительно отринуть все устаревшие поэтические формы: рондо, баллады, вирлэ, королевские песни "и прочие пряности, портящие стиль нашего языка и служащие только свидетельством нашего невежества" (II, 4)[Поэты французского Возрождения. Л., 1938. Здесь и ниже пер. Н.Д. Румянцевой.] . Направляя свой удар против придворных рифмачей, сочиняющих галантные безделушки, Дю Белле заявляет, что "всегда почитал нашу французскую поэзию способной на более высокий и лучший стиль, чем тот, которым столь долгое время довольствовались (II, 1).
Придворная поэзия представляется ему старомодной, мелкой и тривиальной. Он мечтает о поэзии, "более высокий" стиль которой бы соответствовал бы ее более высокому складу и назначению. Речь здесь по сути дела идет о содержательности поэзии, или, как выражается автор, о доктрине, которая бы служила твердой основой произведения (II, 3). Не отрицая того, что "поэтом надо родиться", Дю Белле не отделяет вдохновения от разума, а разум от труда. "Кто хочет в произведениях своих облететь мир, - заявляет автор, - должен долго оставаться в своей комнате; и кто желает жить в памяти потомства, должен, как бы умерев для самого себя, покрываться потом и дрожать не раз, и сколько наши придворные стихотворцы пьют, едят и спят в свое удовольствие, - столько же должен поэт терпеть голод, жажду и долгие бдения. Это крылья, на которых писания людей взлетают к небу" (II, 3).
Поэзия не должна быть нарядной погремушкой, бездумной светской забавой. По мнению Дю Белле, она даже не имеет права быть посредственной (II, 2).
Ведь "забавляя" красотой слов, так легко потерять "силу вещей" (I, 8), а без большого внутреннего содержания поэзия перестает быть тем, чем она должна быть. Настоящий поэт должен захватить читателя, воспламенить его сердце. А для этого ему должна быть ведома правда человеческих чувств. По словам Дю Белле, "лишь тот будет действительным поэтом... кто заставит меня негодовать, успокаиваться, радоваться, огорчаться, любить, ненавидеть, любоваться, удивляться..." (II, 11). Такой поэт уже не жалкий развлекатель светской черни, но жрец, увенчанный богами. Он владеет сердцами людей, и он обязан помнить о своей благородной миссии.
Но где найти достойные образцы поэзии? Дю Белле указывает надежный источник. Это - классическая древность. Он призывает своих соотечественников "обратиться к подражанию лучшим авторам греческим и латинским, направляя острие своего слога к их величайшим достоинствам, как к верной цели; ибо нет сомнения, что наибольшая часть мастерства заключается в подражании" (II, 8). Выдвигая здесь принцип подражания, Дю Белле отнюдь не имеет в виду слепое копирование иноземных образцов. Он даже сурово осуждает тех подражателей, которые, не проникая "в самые скрытые и внутренние стороны автора, взятого за образец", схватывают только внешние черты (I, 8). Под подражанием Дю Белле разумеет творческое соревнование.
"Итак, прежде всего, - заявляет Дю Белле, - читай и перечитывай, о будущий поэт, перелистывай ночью и днем греческие и латинские образцы!" Отринув устарелые французские формы, пусть обратится поэт к таким классическим жанрам, как эпиграмма и элегия, и при этом не чуждается "древних мифов, являющихся немалым украшением поэзии". "Пой оды, - продолжает он, - еще неизвестные французской Музе: под лютню, настроенную созвучно с греческой и римской лирой. А содержанием послужит тебе восхваление богов и доблестных людей, роковая скоротечность мирских вещей, юношеские заботы - любовь, вино, развязывающие языки, и всякие пиршества. Больше всего старайся, чтобы этот род стихотворений был далек от обыденного языка, обогащен и возвеличен собственными именами и непраздными эпитетами, украшен всякими изречениями и разнообразен во всякого рода красках и поэтических украшениях". Далее Дю Белле говорит о посланиях, горацианских сатирах, сельских эклогах во вкусе Феокрита. "Что касается комедий и трагедий, то если бы короли и государство захотели восстановить их в древнем достоинстве, похищенном у них фарсами и моралите, я был бы того мнения, что тебе следует заняться ими".
Не следует также, по мнению Дю Белле, проходить мимо достижений итальянской ренессансной литературы. С особой теплотой он отзывается о сонетах, "столь же ученом, сколь и любезном итальянском изобретении", прославленном {[именной указатель]} Петраркой и несколькими современными итальянскими поэтами (II, 4).
Отдельную главу Дю Белле посвящает эпопее. Указывая на пример Ариосто, сравнявшегося, по его мнению, с Гомером и Вергилием, он полагает, что и во Франции могла бы ярко засиять эпическая поэзия. Ведь если Ариосто с успехом обращался к старинным французским сюжетам, то почему бы и французским поэтам не обратиться к таким "прекрасным старинным французским романам", как "Ланселот" или "Тристан", или не воспользоваться "великим красноречием, собранным в старых французских хрониках, подобно тому, как Тит Ливий употреблял анналы и прочие древние римские хроники": "Подобный труд, несомненно, послужит к бессмертной славе его зачинателей, к чести Франции и к великому прославлению нашего языка" (II, 5).
Между тем есть во Франции ученые педанты, которые пренебрегают родным языком, считают его бедным, варварским, не идущим ни в какое сравнение с прославленными языками классической древности. Эти люди "с высокомерием стоиков отвергают все написанное по-французски", полагая, что французский народный язык "не пригоден ни для письменности, ни для учености" (I, 1).
И Дю Белле горячо защищает права французского языка. Он убежден, что французы "ни в чем не ниже греков и римлян" (I, 2). А если язык французский "не столь богат в сравнении с греческим и латинским", то ведь и древние языки не всегда были богаты. "Если бы древние римляне столь же небрежно возделывали свой язык, когда он только начинал пускать ростки, то, наверное, он не стал бы в такое короткое время таким великим". И Дю Белле уже провидит то время, когда французский язык, "только еще пустивший корни, выйдет из земли, поднимется на такую высоту и достигнет такого величия, что сможет сравняться с языками самих греков и римлян, порождая, подобно им, Гомеров, Демосфенов, Вергилиев и Цицеронов, как порождала Франция порой своих Периклов, Алкивиадов, Фемистоклов, Цезарей и Сципионов" (I, 3).
Впрочем, уже и сейчас, по мнению Дю Белле, французский язык вовсе не является скудным. В царствование Франциска I в связи с общим подъемом французской культуры он достиг значительных успехов (I, 4). И он станет еще богаче и изящнее, если французские писатели будут без устали трудиться над его усовершенствованием. Для этого необходимо всемерно обогащать его лексику и разнообразить его формы.
Писатель вправе "изобретать, усваивать и составлять, в подражание грекам, те или иные французские слова". Ведь новые явления жизни, новые понятия требуют новых слов, и поэт не может без них обойтись (I, 6). Он должен, не ограничивая себя узким придворным кругом, внимательно присматриваться к жизни страны и черпать из нее самые разнообразные сведения, чтобы поэзия его была обильной и широкоохватывающей (I, 11). Не следует пренебрегать также архаизмами и диалектизмами. Все может пойти на пользу искусному поэту.
Но ведь нечто похожее мы уже встречали в словесной мастерской Рабле. А разве утверждение Дю Белле, что виды стиха, "хотя риторики и стремятся их ограничить", столь же "разнообразны, как человеческое воображение и как сама природа" (I, 9), не заставляют вновь вспоминать о романе Рабле, необычайно разнообразном по своему жанровому составу? Все это свидетельствует о том, что поэтика Дю Белле еще не стала нормативной, что это - поэтика эпохи Возрождения, а не классицизма, хотя в ней уже и появляются тенденции, характерные для классицизма. В частности, это сказывается в тяготении Дю Белле к риторическому велеречию, столь излюбленному классицистами. Например, он советует поэтам "почаще употреблять фигуру антономасию, настолько же нередкую у древних поэтов, насколько мало она употребляется и даже неизвестна у французов. Ее изящество в том, что название предмета обозначается через его свойство, как-то: разящий молниями отец - вместо Юпитер, бог, дважды рожденный вместо Вакх, Дева- охотница - вместо Диана"... (II, 9).
Реформа, предложенная Дю Белле, очень скоро доказала свою плодотворность. Уже в начале 50-х годов Ла Боэси мог написать в своем "Рассуждении о добровольном рабстве": "...французская поэзия, в настоящее время не вычурная, но как бы совершенно обновленная нашим Ронсаром, нашим Баифом, нашим Дю Белле. Им мы обязаны огромными успехами французского языка, и я льщу себя надеждой, что греки и римляне скоро не будут иметь в этом отношении других преимуществ перед нами, кроме прав старшинства"[Ла Боэси Этьен де. Рассуждения о добровольном рабстве. М., 1952. С. 33.] .
Следует все же заметить, что творческая практика Плеяды, первоначально близко следовавшая за теоретическими положениями Дю Белле, в дальнейшем пошла по более широкому пути. Поэты новой школы не остановились на подражании античным авторам и петраркистам. С годами их поэзия становилась все более самобытной и национальной. Классические черты сливались с чертами народными. Дю Белле хотел видеть вершину грядущей французской поэзии в торжественной эпопее. Но Плеяда так и не выдвинула второго Вергилия. Зато в сфере лирической поэзии она достигла результатов поистине замечательных.
Признанным главой плеяды был Пьер де Ронсар (1524-1585). Он родился в семье небогатого дворянина в провинции Вандоума. Отец будущего поэта не был чужд литературы. Участник итальянских походов, он из страны Петрарки привез в свой родовой замок много книг, охотно писал стихи. Близость к Франциску I дала возможность направить сына ко двору, и юный Ронсар в течение ряда лет состоял пажом при детях короля. Он побывал в Англии, Шотландии, Фландрии, Дании, Германии и Италии. Знакомство с различными странами, встречи с образованными людьми не прошли даром для любознательного молодого человека. Ронсара все сильнее начинает привлекать культура гуманизма. Перед молодым, красивым, блестящим аристократом открывались заманчивые перспективы, однако внезапно обрушившаяся на него изнурительная малярия (1542), лишившая его слуха, прервала столь успешно начатую придворную карьеру. Теперь уже Ронсар мог всецело отдаться литературным трудам. Правда, ему еще приходилось выступать в роли придворного поэта, создавая сценарии балетов или мадригалы для маскарадов, но на склоне лет он все реже появлялся при дворе, предпочитая великосветской суете, где царят "только блеск и ложь", сельское уединение. Вместе с тем Ронсар отнюдь не был безразличен к судьбам горячо любимой отчизны. Его повергала в уныние все обострявшаяся борьба религиозных партий, грозившая разрушить политическое единство Франции. Он звал врагов к примирению, а когда гражданская война все-таки разразилась, решительно выступил против гугенотов, видя в них виновников начавшихся бедствий. При этом религиозная сторона конфликта занимала Ронсара меньше всего. Не о боге, а о Франции помышлял он, создавая свои стихотворные "Рассуждения".
По своему мироощущению Ронсар был скорее язычником, влюбленным в живописную прелесть классических мифов, в красоту природы, в земную любовь и в звонкоголосую поэзию. Эта влюбленность в жизнь разлита по всем его стихотворным сборникам. Она проступает уже в первом сонетном цикле "Любовь к Кассандре" (1552-1553), написанном под большим влиянием Петрарки и его учеников.
Есть в этих сонетах Ронсара и характерные для петраркизма меланхолические ноты, и томление по недосягаемой цели. Безответная любовь терзает сердце поэта. Он бледнеет и умолкает в присутствии гордой красавицы ("Когда одна, от шума в стороне"), только полуночный бор и речная волна внемлют его жалобам и пеням ("Всю боль, что я терплю в недуге потаенном"). Поэт как бы весь соткан из безысходных противоречий ("Любя, кляну, дерзаю, но не смею"). В то же время сонетам этого цикла присущ яркий чувственный элемент. Он здесь гораздо ярче ощутим, чем в изысканной, но очень условной и поэтому холодноватой поэзии петраркистов. Кассандра не превращается в поэтическую фикцию. Это живая женщина, и все вокруг нее живое. Ронсар мечтает о ее жарких объятиях ("В твоих объятьях даже смерть желанна!"), упивается зрелищем красоты:
Когда ты, встав от сна богиней благосклонной, Одета лишь волос туникой золотой, То нежно их завьешь, то, взбив шиньон густой, Распустишь до колен волною нестесненной... [Здесь и ниже пер. В. Левика.]
А то, лежа на зеленом мху среди векового бора, Ронсар не отрываясь смотрит на портрет красавицы, в котором поэт и художник Денизо сумел запечатлеть "Весь мир восторгов в образе живом" ("Гранитный пик над голой крутизной"). Цветущая благоухающая природа как бы свидетельствует о любви поэта, и он погружается в листья и цветы, "Рукой обвив букет душистый мая" ("Когда, как хмель, что ветку обнимая").
В дальнейшем Ронсар окончательно отходит от аффектированного платонизма петраркистов и их прециозной манерности. В сонетном цикле "Любовь к Марии" уже всецело царит здоровая чувственность и благородная простота. Ронсар сам указывает на это в сонете, обращенном к участнику "Плеяды" поэту Понтюс де Тиару:
Когда я начинал, Тиар, мне говорили, Что человек простой меня и не поймет, Что слишком темен я. Теперь наоборот: Я стал уж слишком прост, явившись в новом стиле...
Впрочем, Ронсар не зря побывал в школе петраркизма. Он стал выдающимся мастером сонета. Петрарка помог ему глубже заглянуть в мир человеческих чувств и понять, что такое изящное в поэзии. Но, взяв от петраркизма все, что казалось ему ценным, Ронсар пошел своим особым путем. Он перестал чуждаться обыденного и "низкого". Его Мария не знатная дама, какой была Кассандра Сальвиати, но молодая жизнерадостная крестьянка. Для того чтобы поведать читателям о своей любви, ему уже не нужна пестрая мишура петраркизма. Он говорит о любви разделенной, здоровой и поэтому красивой. И говорит о ней с радостной, иногда с лукавой улыбкой. Сколько настоящей нежности в известном сонете "Мари-ленивица! Пора вставать с постели!". А как любит поэт болтать наедине с Марией о том и о сем! Появление гостя делает его косноязычным. Но гость уходит, и вновь Ронсар острит, шутит, смеется, легко подыскивая нужные слова ("Любовь - волшебница. Я мог бы целый год"). О своем счастье он пишет в Рим Жоашену Дю Белле ("Меж тем как ты живешь на древнем Палатине"). С античной откровенностью рассказывает он порой о наслаждениях, которые испытывает в объятиях Марии. То он ревнует ее к врачу, который в сотый раз хочет увидеть молодую женщину без рубахи ("Ах, чертов этот врач! Опять сюда идет!"), то прощает ей мимолетную измену ("Проведав, что с другим любимая близка"). Ронсару приятно, что его подруга не пустая светская кокетка, изнывающая от безделья. Она
Весь день прядет иль шьет, клубок мотает, вяжет, С двумя сестренками вставая на заре, - Зимой у очага, а летом во дворе...
Он намерен ей подарить вандомское веретено, зная, что этот подарок доставит Марии неподдельную радость: "Ведь даже малый дар, залог любви нетленной, ценней, чем все венцы и скипетры вселенной" ("Веретено"). А когда Мария неожиданно умерла в расцвете лет, Ронсар оплакал ее преждевременную кончину в ряде проникновенных стихотворений ("Смерть Марии" и др.).
Большую роль в творческом развитии Ронсара сыграла античная литература. Ронсар шел в направлении, указанном Дю Белле, и в стихотворении "Едва Камена мне источник свой открыла" с гордостью отмечал свои заслуги перед французской ренессансной поэзией:
Тогда для Франции, для языка родного, Трудиться начал я отважно и сурово, Я множил, воскрешал, изобретал слова, И сотворенное прославила молва. Я, древних изучив, открыл свою дорогу, Порядок фразам дал, разнообразье слогу, Я строй поэзии нашел - и волей муз, Как Римлянин и Грек, великим стал француз.
Дю Белле советовал французским поэтам по примеру древних "петь оды", посвященные восхвалению богов и доблестных людей" либо "юношеским забавам" - любви, вину и всяческим пиршествам. Ронсар стал первым французским одописцем. Его на время увлек Пиндар. Однако пышная высокопарность пиндарических од, впоследствии так привлекавшая классицистов, не вошла в литературный обиход ренессансной Франции, да и сам Ронсар вскоре предпочел более естественную и простую манеру.
Ему гораздо ближе Гораций и греческие анакреонтики, открытые и опубликованные в 1554 г. Анри Этьеном. Его маленькие интимные оды (одолетты) пронизаны ренессансным жизнелюбием. В поэтическом мире Ронсара много света и много радости. Ронсара привлекают и любовные утехи, и веселые пирушки, и дружеские встречи, и хорошие книги, и цветущая природа. Вместе с друзьями хочет он под пенье лир пировать до зари и первый тост поднимает за Анри Этьена, вернувшего людям Анакреона ("Не держим мы в руке своей"). Его пленяет пение веселого жаворонка ("Жаворонок") или журчание ручья, над которым склоняются тенистые ивы ("Ручью Беллери"). О природе Ронсар пишет очень охотно. Ему дорог Гастинский лес, с которым связаны его молодые годы ("Гастинскому лесу"), и он искренне сожалеет о его гибели. Он вопрошает лесорубов, зачем они губят его лес? Разве они не видят, что со ствола стекает кровь молодой нимфы, жившей под корой дерева? (Элегия "Гастинскому лесу"). Для Ронсара это настоящее святотатство. Ведь природа не мертва. Она напоена жизнью. Языческие боги не умерли, поэт их ясно видит и слышит. Как в легендарные времена Орфея, беседует он с природой, внимает ее голосам, она вся наполнена для него отзвуками древних мифов. Музы водят для него свой хоровод, Аполлон сходит с заоблачной высоты, и нимфы населяют леса и речные потоки. И нас вовсе не удивляет, что речь идет не о сказочной Аркадии, а о Франции XVI в., что нимфы прячутся в ручье Беллеры, а Феб резвится на берегу Луары ("К истоку Луары").
Поэзия Ронсара очень конкретна и пластична. У него глаз опытного ваятеля. В одной из эклог он очень точно описывает чеканные изображения на чаше, и стихи его приобретают весомость и рельефность, словно они отлиты из серебра. Вместе с тем стихотворения Ронсара удивительно мелодичны. Многие из них стали популярными песнями, да и по духу своему они весьма близки народным песням, на которые свысока поглядывал молодой Дю Белле.
Но прекрасный мир ронсаровской поэзии не так уж безоблачен. Ронсара неотступно преследует мысль о быстротечности жизни. К благоуханию цветов в его стихах нередко примешивается запах тления ("Стансы"). Но обо всем этом Ронсар твердит не для того, чтобы внушить отвращение к жизни и ее радостям. Наоборот, вслед за Горацием он призывает "ловить наставший день", не упустить ничего из того, что может дать жизнь человеку. Разве роза менее прекрасна оттого, что скоро должна увянуть? Обращаясь к поэту Адамису Жамену, он пишет:
Итак, Жамен, лови, лови наставший день! Он быстро промелькнет, неуловим, как тень, Зови друзей на пир, чтоб кубки зазвучали! Один лишь раз, мой друг, сегодня нам дано, Так будем петь любовь, веселье и вино, Чтоб отогнать войну, и время, и печали.
И все же есть во всем этом что-то тревожное. Значение, видимо, имел тут и чисто личный момент. Ведь Ронсара одолевала изнурительная болезнь, с годами ее власть чувствовалась все сильнее ("Я высох до костей..."). К тому же и вокруг становилось все тревожней, никто не знал, что принесет с собой завтрашний день.
Не следует,однако, видеть в погоне за мигом подлинное содержание жизни Ронсара. Ронсар любил поэзию, женщин, друзей, но самой большой его любовью была Франция. Еще в одном из своих первых печатных произведений, в "Гимне Франции" (1549), воспел он свою прекрасную отчизну. Радея о славе Франции, взялся он за перо. В 1564 г. он даже начал писать монументальную эпопею "Франсиада", которая должна была стать французской "Энеидой", но не смог справиться с этой грандиозной задачей. По характеру своего дарования он не был эпиком; к тому же не мог он не ощущать и всей зыбкости современного положения Франции. Тревожила его и религиозная рознь, перешедшая в открытую гражданскую войну, и возросшая власть золота ("Гимн золоту"), и то, что при королевском дворе царят лицемерие, доносы, и большая ложь ("Оставь страну рабов, державу фараонов").
Этому испорченному, взбаламученному миру Ронсар противопоставлял горацианскую проповедь тихих радостей на лоне природы. Только вдалеке от порочной суеты дворцов может человек вздохнуть полной грудью. Только там он может почувствовать себя свободным. В связи с этим Ронсар поэтизирует трудовую жизнь простого пахаря:
Блажен кто по полю идет своей дорогой, Не зрит сенаторов, одетых красной тогой, Не зрит ни королей, ни принцев, ни вельмож, Ни пышного двора, где только блеск и ложь... ("Кардиналу де Колиньи")
Однако рисуемая Ронсаром сельская идиллия не имела под собой твердой жизненной почвы, как впрочем, и вся идиллическая литература того времени. Душой ее была мечта о золотом веке, принявшая у Рабле очертание Телемской обители, а у Ронсара выступавшая в виде то идиллии, то сказки о блаженных островах ("Блаженные острова"), то мифического Элизиума, в котором царит гармония, неведомая на земле ("Как вьется виноград, деревья обнимая").
Поэзия Ронсара не утратила своей художественной силы и в поздние его годы. Об этом ясно свидетельствуют превосходные "Сонеты к Елене", написанные стареющим поэтом в конце 70-х годов. Среди них находим мы и знаменитый сонет "Когда, старушкою, ты будешь прясть одна", принадлежащий к числу самых замечательных созданий французской ренессансной лирики
Поэзию Плеяды подчас называли аристократической и придворной, не обращая внимание на то, что она далеко выходила за узкие пределы двора, став важнейшим явлением национальной французской культуры XVI в. Ронсар гордился тем, что его "песни поет весь народ". Он заставляет воображаемого пастуха сказать над своим могильным холмом:
Не прельщался он вздорной Суетою придворной И вельможных похвал Не искал. ............. Дал он лире певучей Много новых созвучий, Отчий край возвышал, Украшал. ("На выбор своей гробницы")
Ронсар был не только превосходным лириком, достойным встать в один ряд с Петраркой и Шекспиром. В его творческом наследии заметное место занимают стихотворные послания, оды, гимны, в которых он предстает перед нами как мыслитель и мастер ораторского слова, то патетического, то язвительного, то близкого к разговорной речи.
К числу лучших образцов этого поэтического рода относится упоминавшийся выше пространный "Гимн золоту". В нем заключены размышления о судьбах людей и собственной судьбе. Видя, как мир охвачен "духом наживы", Ронсар вместе с тем не склонен превозносить бедность. Он не намерен бросать вызов истории, подчиняющейся силе золота. По словам поэта, "Бог золото дарит не для того, чтоб мы / Снабжали им льстецов, продажных девок тьмы"... "Сокровища земли - для жизни и добра".
В "Речи против фортуны", посвященной де Колиньи, кардиналу Шатильонскому, Ронсар, сетуя на происки злой фортуны, гневно клеймит пороки окружающего мира, утратившего благородное прямодушие и умение ценить подлинное дарование.
Но чтобы обрести признанье в наше время, Потребно честь и стыд отбросить, словно бремя. Бесстыдство - вот кумир, кому подчинены Все, сверху донизу, сословья и чины... (Пер. Г. Кружкова)
А в стихотворном послании Генриху II, красноречиво осуждая воинственность королей, Ронсар мечтает о той поре, когда благословенный мир воцарится наконец во Франции ("Мир").
Среди поэтов Плеяды, наряду с Ронсаром, особенно выделяется Дю Белле. Он не только автор первого литературного манифеста новой школы, но и замечательный лирик. Происходил Жоашен Дю Белле (1522-1560) из старинного дворянского рода, не раз выдвигавшего видных государственных и церковных деятелей. Так, его кузен Жан Дю Белле, покровительствовавший {[именной указатель]} Ф. Рабле, был кардиналом и известным дипломатом. Жоашен принадлежал к младшей ветви этого рода. Он появился на свет в ветхом родовом замке в селении Лире на берегу Луары в провинции Анжу. С детских лет его мучила чахотка, которая и свела его преждевременно в могилу. Учился он сперва в университете Пуатье на юридическом факультете, затем в Париже вместе с Ронсаром и Баифом. Встреча с Ронсаром в 1547 г. сыграла большую роль в его жизни. Он становится учеником "Бригады" и в 1548 г. уже пишет манифест новой школы. В 1553 г. Дю Белле покинул Францию и в свите своего кузена кардинала Жана Дю Белле, отправляющегося в Рим с важным поручением, прибыл в Вечный город. В Италии (1553-1557) Дю Белле написал свои лучшие книги, принесшие ему заслуженную известность.
В этих книгах уже нет петраркистской манерности, которая была присуща раньше его ранним поэтическим творениям. Им свойственны ясность, простота и подкупающая задушевность. Особенно это относится к сборнику сонетов "Сожаления" (1558). Это своего рода поэтический дневник, в который Дю Белле заносил свои наблюдения над окружающей жизнью, размышления и признания. В нем нет ничего поражающего и чрезмерно яркого. Поэт признается, что вовсе не стремится проникнуть в глубочайшие тайны мироздания.
Высоких образцов я не ищу для оды, Не украшаю я картины пестротой, Но вслед событиям обители земной В простых словах пою и благо, и невзгоды. Печален ли - стихам я жалуюсь своим, Я с ними радуюсь, вверяю тайны им, Они наперсники сердечных сожалений. И не хочу я их рядить иль завивать, И не хочу я им иных имен давать, Как просто дневников иль скромных сообщений. (Пер. В.С. Давиденковой)
Любовь не стала ведущей темой книги Дю Белле, и для нас его любовные сонеты, пожалуй, менее привлекательны, чем те, в которых запечатлены чувства и мысли французского гуманиста, заброшенного на чужбину. Когда нищий поэт принял предложение влиятельного кардинала отправиться в Рим в качестве его секретаря, им, видимо, руководили не одни только материальные соображения. Кого из гуманистов не привлекала родина Петрарки и Боккаччо, сохранявшая следы великой античной цивилизации? И Дю Белле, вероятно, многого ждал от этой поездки. Но молодого гуманиста постигло жестокое разочарование. Во-первых, вместо того чтобы заниматься науками и искусствами ("Прилежно изучу я всякое призванье"), он должен был возиться с делами, которые вызывали у него одно только отвращение. "Хожу к банкирам, слушаю купцов", - писал он о своих повседневных занятиях. Во-вторых, Италия уже была окутана дурманом Контрреформации. Да и нигде еще Дю Белле не видел такого скопления пороков, как в папском Риме, и он написал об этом в ряде сонетов. Поэта охватывает щемящее чувство одиночества. Он сожалеет о том, что покинул любимую родину. Тоска по Франции наполняет его стихотворения. Он сравнивает себя с беспомощным ягненком, блуждающим зимней порой среди лютых волков ("О Франция, искусств, законов, браней мать"). Он вспоминает о родных местах, и они представляются ему такими светлыми, такими ласковыми:
Когда увижу я, бог весть, какой порою - В селенье милом вновь трубы знакомой дым, Увижу тесный сад пред домиком моим - Владенье кровное, где душу успокою? Милей бы хижина отцов моих была Мне римских всех палат с их гордостью чела; И крепких мраморов на кровле - шифер скромный; И Тибра галльская Луара мне милей! И палатинских круч - мой маленький Лирей; И влажности морской - анжуйский воздух томный. (Пер. Ю.Н. Верховского)
Однако, ведя с самим собой сосредоточенный грустный разговор, Дю Белле не замыкался в своем личном узком мирке. Его беспокоят судьбы мира. Он не только грустит, но и негодует. Он одновременно и тончайший лирик и требовательный поэт- гражданин. С каким сарказмом пишет он, например, о властителях, которые, пренебрегая благом народов, ведут свои кровавые игры:
Кто плачет там? Им воевать охота. Страна измучена, разорена, Но между ними и страной стена. Еще поцарствовать - вот их забота... (Пер. И. Эренбурга)
О превратных судьбах Рима размышляет он в книге сонетов "Древности Рима" (1558). Видя повсюду обломки былого величия, поэт не приходит к мрачной мысли о тщете человеческих дел. С удовлетворением отмечает он, что античный гений продолжает жить в творениях современных поэтов и зодчих:
Вот он - веками истребленный Рим, Он воскресает, он неистребим, Рожденный страстью, он сильнее смерти. (Пер. И. Эренбурга)
В 1562 г. вспыхнула гражданская война. Новая обстановка плохо вязалась с веселым горацианством Ронсара и других поэтов Плеяды. Не удивительно, что в суровые годы гражданской войны Плеяда быстро утратила свое былое влияние. В стране, как никогда, бушевали религиозно-политические страсти. Все были вовлечены в этот стремительный водоворот. Горели деревни, разрушались замки, осаждались города. Люди оборонялись, нападали, плели заговоры. Понятно, что и литература не могла стоять в стороне от этих драматических событий. Нередко она превращалась в оружие, с большой силой разившее противника. Враждующие стороны распевали воинственные песни, осыпали друг друга язвительными памфлетами и сатирами. На исходе XVI в. появилась талантливая "Мениппова сатира" (1594), в которой сторонники Генриха IV остроумно осмеяли католическую Лигу, стремившуюся посадить на французский престол своего ставленника.
В это время во Франции было немало талантливых писателей, публицистов и мыслителей. Достаточно сказать, что ко второй половине XVI в. относится деятельность великого французского философа Мишеля Монтеня (1533-1592), автора знаменитых "Опытов".
Весьма яркой фигурой среди писателей периода гражданских войн был поэт и прозаик Теодор Агриппа Д"Обинье (1552-1630), пламенный гугенот, непримиримый противник папистов. В его произведениях с особой отчетливостью отразился глубокий трагизм тогдашней французской жизни.
Происходил д"Обинье из провинциальной дворянской семьи. Отец его был убежденным гугенотом. С ранних лет видел Агриппа ужасы междоусобной розни. В своих "Мемуарах" он вспоминает о следующем характерном случае: "Когда ему было восемь с половиной лет[Агриппа пишет о себе в третьем лице.] , отец повез его в Париж. Проезжая в ярмарочный день через Амбуаз, отец увидел головы своих амбуазских сотоварищей, которых еще можно было различить на виселице, и был так взволнован, что перед толпой в семь или восемь тысяч человек воскликнул: "Палачи! Они обезглавили Францию!" Увидя на лице отца необычайное волнение, сын подъехал к нему. Отец положил ему руку на голову и сказал: "Дитя мое, когда упадет и моя голова, не дорожи своей, чтобы отплатить за этих достойных вождей нашей партии. Если ты будешь щадить себя, да падет на тебя мое проклятие!"[Д,Обинье Агриппа. Трагические поэмы. Мемуары / Пер. Парнаха. М., 1949. С. 52.]
И Агриппа вполне оправдал отцовские ожидания. Свою неукротимую энергию отдал он делу гугенотов. В 1568 г., обманув бдительность опекуна, он спустился через окно на простынях, в одной рубахе, босой, чтобы присоединиться к вооруженному отряду своих единоверцев. С этого времени его жизнь становится похожей на авантюрный роман. О д"Обинье говорят как о человеке, "который ничего не боится". Всегда на коне, со шпагой и пистолетом в руках, ищет он "опасности и славы". Будучи приближенным Генриха Наваррского, он не смешивается с толпой придворных льстецов. Переход Генриха в католицизм ради того, чтобы утвердить свое право на французский престол, явился для него тяжелым ударом. Но ради личных выгод д"Обинье не отрекся от "истинной веры". Он гордился этим и в "Мемуарах" писал: "По справедливости, д"Обинье мог сказать, что кроме тех дней, когда он болел и страдал от ран, он не провел без работы и четырех суток подряд". Не раз находился он на краю гибели. Четыре раза враги приговаривали его к смертной казни. По словам д"Обинье, "никогда и нигде Бог не давал ему жить в безопасности".
Воином, борцом, трибуном оставался д"Обинье и в своих литературных произведениях. Писал он и любовные стихи. Однако в его юношеской лирике уже звучат мотивы, не свойственные поэзии Плеяды. Ведь его любовь - это любовь солдата, не знающего ни минуты покоя среди потрясений гражданской войны:
Ветров и волн изведав ад И к смерти каждый миг готовый, Теснимый гидрой стоголовой Врагов, крамолы и засад, Во сне хватая наугад Пистоль в тревоге вечно-новой, Пою любовь я в час суровый, Хоть стих покою был бы рад. Прости же песню, друг мой милый, В которой не хватает силы Скрыть боль солдатского житья. Ведь с той поры, как в этих взорах Я муку пью, мой стих, как я, Впитал в себя и дым и порох [Поэты французского Возрождения. Л., 1938. С. 235.].
Боевым духом проникнуты язвительные антикатолические памфлеты д"Обинье и его сожженная рукой палача "Всеобщая история", в которой изложена история гражданской войны во Франции, а также события, связанные с борьбой протестантизма и католицизма в ряде европейских стран. Сатиру на придворное дворянство представляет и его роман "Приключения барона Фенеста" (изд. 1630).
Но самым сильным и, можно даже сказать, самым могучим произведением д"Обинье являются "Трагические поэмы", состоящие из семи книг или поэм, написанных александрийским стихом. Д"Обинье начал писать их в самый разгар гражданских войн. В 1577 г., командуя отрядом кавалерии, он был тяжело ранен в сражении. И вот, когда тяжело раненный Обинье лежал в постели и врачи уже опасались за его жизнь, он продиктовал местному судье первые отрывки из своих "Трагических поэм". Вероятно, работу над книгой д"Обинье продолжил в последующие годы. В 1616 г. она впервые увидела свет.
Во французской литературе XVI в. нет другого такого произведения, в котором бы так широко и с такой потрясающей силой были изображены бедствия, обрушившиеся на Францию, охваченную пламенем религиозной вражды. Мать Родина скорбит, видя, как враждуют ее дети, ослепленные яростью, терзают они ее священное тело. В другом месте поэт сравнивает Францию с кораблем, на борту которого идет сражение.
Понятно, что вину за бедствия, постигшие Францию, поэт-гугенот возлагает на католическую партию и ее лидеров. Страна истерзана междоусобной войной, произволом власть имущих, бесчинствами королевских наемников, голодом, болезнями, нищетой. Особенно велики страдания крестьян. Д"Обинье рисует страшные картины народного разорения. В книге "Бедствия" он пишет:
Три пятилетия уже мы каждый день Встречаем беженцев из нищих деревень, Они живут в лесах, они ползут в родную Утробу матери, в пещеру, в глубь земную, И ищут, если брат им в крове отказал, Кабаньих зарослей или медвежьих скал. И павших кто сочтет? Сошла к ним смерть благая, Им петлю, яд и нож и пропасть предлагая. (Пер. М.М. Казмичева)
Глубокая скорбь поэта превращается в негодование, а негодование - в ярость, когда речь заходит о тех, кто, по мнению д"Обинье, повинен в страданиях Франции. Это папа, Карл IX, Генрих III, Екатерина Медичи, католическая Лига, Гизы, инквизиторы, сорбоннисты, иезуиты. И д"Обинье создает чрезвычайно резкие сатирические портреты вдохновителей и прислужников католической реакции ("Монархи", "Золотая палата" и др.). Он обличает их, издевается над ними, осыпает их злыми сарказмами. Люди, запятнавшие себя кровью Варфоломеевской ночи, уже не люди, но "адские чудовища". Д"Обинье описывает страшную резню, прокатившуюся по многим французским городам ("Мечи"). Одна мрачная картина следует за другой. Поэт видит горы трупов и зарева пожарищ. В кровавый поток превратилась Сена. Лувр стал огромным эшафотом. От убийств содрогаются Орлеан, Лион, Труа, Руан и другие города.
Д"Обинье вспоминает прежние выступления против тирании католической церкви - альбигойцев, гуситов и прочих защитников "истинной веры", восхищаясь их беспримерным мужеством. Он предвещает время, когда гнев божий сокрушит безумный Вавилон. Уже многим воздал Господь за их преступления ("Отмщения"), а в день Страшного суда никто не уйдет от справедливого возмездия. Сама обесчещенная людьми природа взывает к небесам о мщении ("Страшный суд"):
Кто прячется, бежит от божьего суда? Теперь вам, Каины, не скрыться никуда! (Пер. В.Я. Парнаха).
Так на закате французского Ренессанса появилось произведение, страстно протестовавшее против тирании инквизиции, беззакония властей и той бесчеловечности, которая воцарилась во Франции в годы религиозных войн. Сила д"Обинье в том, что он защищал не только гугенотов, но и попранную человечность, не укладывавшуюся в узкие конфессиональные рамки. В этом он прямой наследник великих гуманистов эпохи Возрождения. Но гуманизм д"Обинье пропитан горькой скорбью. К тому же д"Обинье не был прекраснодушным мечтателем, искавшим спасение на блаженных островах поэтического вымысла. Он был активным участником трагических событий. Его поэзия врывалась в жизнь. Такая поэзия не могла быть галантной и изящной. Поневоле она была мужественной и суровой. А тем, кто укорял его за это, д"Обинье отвечал:
Тому, кто скажет мне, что раскаленный стих Из крови создал я и из убийств одних, Что ужас только там, свирепость и измена, Раздор, позор, резня, засада, яда пена, - В вину ты ставишь мне, отвечу я ему, Словарь, присвоенный искусству моему. Век, нравы изменив, иного стиля просит: Срывай же грубые плоды, что он приносит. (Пер. М.М. Казмичева)
Поэзия Плеяды
Материал "увели" с сайта http://сайт/
Знаменитый манифест «Защита и прославление французского языка» (далее «Защита») 1549 года явился одновременно дополнением и опровержением трактата Себиле. Эта книга, вдохновленная произведением Спероне Сперони «Dialogo delle lingue » (О чрезмерном предпочтении латыни) 1542 года, явилась выражением литературных принципов Плеяды в целом. Хотя и был выбран лидером, но редакция манифеста была доверена дю Белле. Чтобы лучше понять суть реформ, к которым стремилась Плеяда, «Защиту» стоит в дальнейшем рассматривать в совокупности с произведением Ронсара «Краткое изложение поэтического искусства» и его предисловием к «Франсиаде».
Поэзия Плеяды
Взгляды дю Белле
Придерживался мнения, что французский язык в том виде, в котором был представлен в те времена, был слишком беден, чтобы служить средством для выражения высших форм поэзии. Однако он настаивал на том, что при подходящем культивировании, его можно будет поднять на один уровень с классическими языками. Он осуждал тех, кто махал рукой на родной язык и использовал латинский язык для более серьезных и амбициозных трудов. В переводах древних авторах, он советовал избегать имитации, хотя и не уточнял в «Защите», как именно этого добиться. Следовало придерживаться не только форм классической поэзии, но и отдельного поэтического языка и стиля, отличающегося от того, что использовался в прозе. следовало обогащать путем развития его внутренних ресурсов, прибегая лишь в редких случаях к заимствованиям из итальянского, латинского и греческого языков. Как дю Белле, так и Ронсар основной упор делали на необходимости соблюдения крайней осторожности при таких заимствованиях, и оба они отказывались от тенденции латинизации своего родного языка. Их манифест явился воодушевляющей защитой поэзии и возможностей французского языка. Он также явился своего рода объявлением войны тем писателям, которые придерживались менее передовых взглядов.
Яростные нападки дю Белле в адрес Маро и его последователей, а также на , не прошли незамеченными. Себиле ответил в предисловии к своему переводу «Ифигении» Эврепида. Гильом Дезотель, лионский поэт, упрекнул дю Белле в неблагодарности к своим предшественникам и указал на слабость его аргумента по поводу имитации в противопоставлении к переводу, отклоняющемуся от темы в «Комментарии к яростной защите Луи Мегре» (Лион, 1550 г.). Еще ряд заметных авторов того времени подвергли его своей яростной критике.
Дю Белле дал отпор своим многочисленным противникам в предисловии к своей второй публикации (1550 г.) сборника сонетов «Олива», вместе с которой он также опубликовал две полемических поэмы – «Musagnaeomachie » и оду, адресованную Ронсару «Против завистливых рож» (Contre les envieux fioles ). Сборник стихов «Олива» представлял собой коллекцию сонетов, имитирующих поэзию Петрарки, Ариосто и современных итальянских авторов. Впервые он увидел свет в 1549 году и был напечатан итальянским издателем Габриэле Джолито де Феррари. Вместе с ним было напечатано 13 од под общим названием «Лирические стихи» (Vers lyriques ).
(ТД1, стр.536) …При начале каждого Цикла в 4,320,000 лет, Семь или, как у некоторых народов, Восемь Великих Богов нисходят, чтобы установить новый порядок вещей и дать импульс новому циклу. Этот восьмой Бог был объединяющим Кругом или Логосом, выделенным и отличным от его Воинства в экзотерической догме так же, как и три божественные Ипостаси древних греков, рассматриваемые ныне в церквах, как три отдельных Лица. Как гласит Комментарий:
«Могущественные совершают свои великие деяния и оставляют позади себя никогда непреходящие памятники для запечатления своих посещений, каждый раз как они проникают за нашу Иллюзорную завесу (атмосферу)» Так нам говорят, что величественные Пирамиды были построены под их непосредственным наблюдением, «когда Дхрува (тогда полярная звезда) была в своей низшей кульминационной точке, Криттика (Плеяды) смотрели поверх ее головы (были на том же меридиане, только наверху) и наблюдали за работой Великанов». Таким образом, если первые пирамиды были возведены в начале Звездного Года под Дхрувой (Альфа Поларис), то следовательно это должно было быть более чем 31,000 лет (31,105) тому назад. Бунзен был прав, признавая за Египтом древность, превышающую 21,000 лет, но эта уступка едва ли исчерпывает истину и факт в данном вопросе. …
(ТД1, стр.811)… Кроме того, несколько других «авторитетов» говорят нам, что ни один народ Востока не знал о Зодиаке до того, как эллины милостиво не ознакомили своих соседей со своим изобретением. И это утверждение делается, несмотря на Книгу Иова, которая ими же самими объявлена, как наиболее древняя в европейском Каноне и, конечно, раньше Моисея. Книга, которая говорит о сотворении «Арктура, Ориона и Плеяд (Ас, Кесиль и Хима) и тайников Юга, о Скорпионе и Мазаруте – двенадцати знаках, слова, которые, если только они нечто означают, предпосылают знание Зодиака даже среди номадов арабских племен. …
(ТД1, стр.813) …Затем Байи вычислил период, в который созвездия проявляли атмосферические влияния, называемые Иовом «благими воздействиями Плеяд»[по еврейски Кима](Плеяды, как всем известно, суть семь звезд за созвездием Тельца, появляющиеся при начале весны. Они имеют очень оккультное значение в индусской Эзотерической Философии и соединяются со Звуком и другими мистическими принципами в Природе.); также воздействия Ориона (Кесила); и дождей пустыни в связи с Скорпионом, восьмым созвездием; и нашел, что в виду вечного соответствия этих делений Зодиака и наименований перечисленных Планет, всегда, везде и в том же порядке и в виду невозможности приписать все это случаю и «совпадению» – «которые никогда не создают подобных тождественностей» – следует действительно допустить очень большую древность Зодиака. …
(ТД2, стр.510) …«В эпоху, когда летний «колурий» тропиков проходил через Плеяды, когда Сердце Льва было на экваторе и когда Лев при закате находился в вертикальном положении по отношению к Цейлону, тогда Телец в полдень стоял вертикально над островом Атлантиды». …
(ТД2, стр.689-692) … Что же касается до семи таинственных Риши созвездия Большой Медведицы, то, если Египет посвятил их «самой древней родительнице» Тифону, Индия с древнейших времен соединяла эти символы с циклами Времени и Циклами Юг, и Саптарши тесно связаны с нашей настоящей эпохой – темной Кали-Югой. Великий Круг Времени, который фантазия индусов изображала в виде дельфина или шишумара, имеет крест, помещенный на нем природою в его подразделении и распределении звезд и созвездий. В Бхагавата Пуране сказано(том XXIII):
«На конце хвоста этого животного, голова которого обращена к югу, а тело изображено в форме кольца [круга], помещается Дхрува [прежняя полярная звезда]; вдоль его хвоста расположены Праджапати, Агни, Индра, Дхарма и т. д., а поперек его бедер – семь Риши»(Переведено с французского перевода Бюрнуфа и приведено Фитцэдуардом Холлом в Вишну Пуране, в переводе Уильсона, II, 307).
Итак, это есть первый и самый ранний крест и круг, образованный Божеством, в его символе Вишны, Вечного Круга Бесконечного Времени, Кала, на плане которого крестообразно лежат все Боги, создания и твари, рожденные в Пространстве и Времени – и которые, как утверждает это Философия, все умирают во время Махапралайи.
Пока что, именно, эти семь Риши отмечают время и продолжительность событий в нашем семеричном Жизне-Цикле. Они так же таинственны, как и их предполагаемые жены Плеяды, из которых только одна – та, которая прячется – оказалась добродетельной. Плеяды или Криттика являются кормилицами Карттикеи, Бога Войны (Марса западных язычников), именуемого Водителем Небесных Армий или, вернее, Сиддх – Сиддха-сена (в переводе – Йоги на Небесах и святые Мудрецы на Земле) – что делает Карттикея тождественным Михаилу, «Водителю Небесных Воинств», и подобно ему девственным Кумаром(Тем более, что ему приписывается поражение Трипурасура и Титана Тарака. Михаил есть Победитель дракона, а Индра и Карттикея часто отождествляются.). Воистину, он есть Гуха, «Таинственный», в той же мере как и Саптарши и Криттика, семь Риши и Плеяды, ибо объяснение их во всей их совокупности раскрывает Адепту самые великие тайны Оккультной Природы. Один пункт заслуживает упоминания в этом вопросе креста и круга, ибо он имеет тесное отношение к элементам Огня и Воды, играющим столь значительную роль в символизме креста и круга. Подобно Марсу, которого Овидий изображает как рожденного лишь его матерью Юноной без участия отца, или же подобно Аватарам (например, Кришне) – на Западе как и на Востоке – Карттикея рождается еще более чудесным образом, не будучи зачатым ни отцом, ни матерью, но из семени Рудра-Шивы, брошенного в Огонь (Агни) и затем воспринятого Водою (Гангом). Таким образом, он рожден от Огня и Воды – «мальчик, блистающий, как Солнце, и прекрасный, как Луна». Потому он именуется Агнибху (сын Агни) и Гангапутра (Сын Ганга). Добавьте к этому тот факт, что Криттика, его кормилица, как это доказывает Матсья Пурана, возглавляется Агни или, согласно подлинным словам – «Семь Риши находятся на той же линии, что и блистающий Агни», следовательно, «Криттика имеет синонимом Агнея»(Там же, IV. стр. 235) – и связь эту легко проследить.
Итак, именно Риши отмечают время и периоды Кали Юги, века греха и горя. Как говорит Бхагавата Пурана:
«Когда великолепие Вишну, называемого Кришна, удалилось на небо, тогда век Кали, во время которого люди услаждаются грехами, овладел миром....
Когда семь Риши находились в Магха, Век Кали, заключающий в себе 1200 [божественных] лет , начался; и когда из Магха они достигнут Пурвашадха, тогда этот век Кали достигнет своего развития под Нанда его наследниками»(Op. cit, XII, II, 26–32; приведено в Вишну Пуране. Перев. Уильсона, IV, 230. Нанда был первым буддийским Правителем Чандрагупта, против которого все брамины восстали, он был из Династии Мориа и прадедом Ашоки. Это одно из мест, несуществующих в ранних Пуранических Манускриптах. Они были добавлены Вайшнавами, которые, в силу своей сектантской злобы, были почти такими же большими исказителями, как и христианские отцы). Это есть (полный) оборот Риши –
«Когда две первые звезды семи Риши (Большой Медведицы) подымутся на небе и некоторый лунный астеризм будет виден ночью на равном расстоянии между ними, тогда семь Риши останутся неподвижными в этом сочетании в течение ста лет»,
– как один ненавистник Нанды заставляет сказать Парашару. По мнению Бентлея это представление получило начало среди астрономов для того, чтобы выявить значение прецессии равноденствий.
«Оно основывалось на представлении воображаемой линии или большего круга, проходящего через полюсы эклиптики и начала, установленного Магха, круг этот должен был отрезать некоторые звезды от Большой Медведицы... Так как семь звезд Большой Медведицы назывались Риши, то такой предположенный круг был назван линией Риши; и будучи неизменно связанным с началом лунного астеризма Магха, возможно было вычислить прецессию, принимая за указание градус и т. д. любого подвижного лунного дома, разрезанного этою линией или кругом»/272/.
Существовало и, по-видимому, и поныне существует бесконечный спор относительно хронологии индусов. Тем не менее, имеется пункт, который мог бы помочь определить – хотя бы приблизительно – эпоху, когда начался символизм семи Риши и их связь с Плеядами. Когда Карттикея был передан Богами на попечение Криттика, их было лишь шесть, отсюда Карттикея изображается с шестью головами; но когда поэтическое воображение ранних арийских символистов сделало из них супруг семи Риши, их стало семь. Имена их даны, они следующие: Амба, Дула, Нитатуи, Абраянти, Магхаянти, Варшаянти и Чупуника. Имеются еще группы имен, впрочем, все они разнятся. Во всяком Случае, Семь Риши показаны, как вступившие в брачный союз с Криттик"ами до исчезновения седьмой Плеяды. Иначе, как могли индусские астрономы говорить о звезде, которую никто не может видеть без помощи самого сильного телескопа? Может быть, в, силу этого, в каждом таком случае большинство событий, описанных в индусских аллегориях, определяется, как «весьма недавний вымысел и, несомненно, в пределах христианской эры». Древнейшие санскритские Манускрипты по астрономии начинают свою серию Накшатра, двадцати семи лунных астеризмов, знаком Криттика, и потому едва ли можно установить их давность раньше, чем 2780 лет до Р. Хр. Так утверждает «Ведический Календарь», признанный даже востоковедами, хотя они выпутываются из затруднения, говоря, что упомянутый Календарь не доказывает, что индусы знали что-либо по астрономии в ту эпоху, и уверяют своих читателей, что, несмотря на Календарь, индусские пандиты могли приобрести свое знание о лунных домах, возглавляемых Криттик"ами, от финикиян и т. д. Как бы то ни было, но Плеяды являются центральной группой в системе звездной символики. Они помещаются в шее созвездия Тельца, рассматриваемого Мэдлером и другими астрономами, как центральная группа системы Млечного Пути, а в Каббале и Восточном Эзотеризме, как звездная семеричность, рожденная от первой, проявленной стороны верхнего Треугольника, скрытого. Эта проявленная сторона есть Телец, символ Одного (цифра 1) или первой буквы еврейского алфавита, Алеф «Телец» или «Бык», синтез которого равняется Десяти (10) или Yod (), что есть совершенная буква и число. Плеяды (в особенности Альцион) рассматриваются, таким образом, даже в астрономии, как центральная точка, вокруг которой вращается наша Вселенная неподвижных звезд, как фокус, из которого и в котором Божественное Дыхание, Движение, непрестанно действует на протяжении Манвантары. Следовательно, в звездных символах Оккультной Философии, именно этот круг, со звездным крестом на его плоскости, играет наиболее выдающуюся роль. …
(ТД2, стр.778) … Число семь тесно связано также с оккультным значением Плеяд, этих семи дочерей Атласа, из которых «шесть налицо, седьмая скрыта». В Индии они связаны с их питомцем, Богом Войны, Карттикея. Именно Плеяды (Криттика по санскритски) дали это имя Богу, ибо Карттикея астрономически есть планета Марс. В качестве Бога он сын Рудры, рожденный без посредства женщины. Он есть Кумара, «юноша-девственник», зарожденный в огне от Семени Шивы – Святого Духа – отсюда его наименование Агни-Бху. Покойный д-р Кинили полагал, что в Индии Карттикея есть тайный символ Цикла Нароса, состоящего из 600,666 и 777 лет, соответственно тому, исчисляются ли солнечные или лунные, божественные или же смертные года; и что видимые шесть или, по настоящему, семь сестер, Плеяды, нужны для завершения этого наиболее таинственного и сокровенного из всех астрономических и религиозных символов. Потому, когда нужно было увековечить какое-либо определенное событие, Карттикея был явлен в древности, как Кумара, Аскет с шестью головами – по одной на каждое столетие Нароса. Когда символ был нужен для иного события, тогда в сочетании с семью звездными сестрами, Карттикея явлен в сопровождении Каумари или Зена, его женственного аспекта. Тогда он появляется сидящим на павлине, птице Мудрости и Оккультного Знания, и индусском Фениксе, связь которого с 600 годами Нароса хорошо известна грекам. Звезда о шести лучах (двойной треугольник), Свастика и шестиконечный и иногда семиконечный венец виден на его челе; хвост павлина изображает звездные небеса; а двенадцать знаков Зодиака скрыты на его теле; по этой причине он называется также Двадаша-кара, «двенадцатирукий» и Двадашакша, «двенадцатиокий». Однако, он особенно прославлен как Шакти-дхара, «копьеносец», и Тарака-джит, победитель Тарака. …
(РИ2, стр.380) …«Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?» [Иов, XXXVIII, 2, и далее] – говорит глас Божий через своего выразителя – природу. – «Где был ты, когда Я полагал основания земли? скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь?.. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?.. Присутствовал ли ты, когда я приказал морям: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим?.. Знаешь ли ты, кто заставил дождь лить на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека... Можешь ли ты связать узел Ориона и разрешить узы Плеяд?.. Можешь ли посылать молнии. и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы?»[Иов, XXXVIII, 35] …
Ссылки
"Тайная Доктрина"(в 2-х томах), откуда взяты цитаты