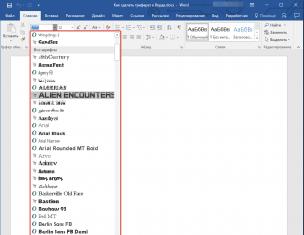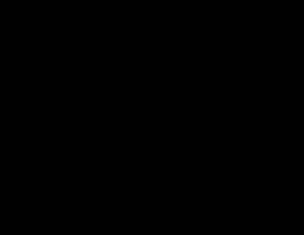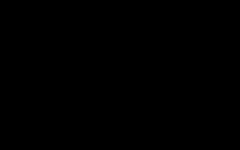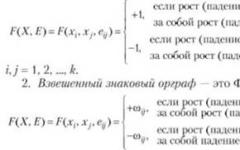Александр Николаевич Островский.
Таланты и поклонники
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЛИЦА:
Александра Николаевна Негина , актриса провинциального театра, молодая девица .
Домна Пантелевна , мать ее, вдова, совсем простая женщина, лет за 40, была замужем за музыкантом провинциального оркестра .
Князь Ираклий Стратоныч Дулебов , важный барин старого типа, пожилой человек .
Григорий Антоныч Бакин , губернский чиновник на видном месте, лет 30-ти .
Иван Семеныч Великатов , очень богатый помещик, владелец отлично устроенных имений и заводов, отставной кавалерист, человек практического ума, ведет себя скромно и сдержанно, постоянно имеет дела с купцами и, видимо, старается подражать их тону и манерам; средних лет .
Петр Егорыч Мелузов , молодой человек, кончивший курс в университете и ожидающий учительского места .
Нина Васильевна Смельская , актриса, постарше Негиной .
Мартын Прокофьич Нароков , помощник режиссера и бутафор, старик, одет очень прилично, но бедно; манеры хорошего тона .
Действие в губернском городе. В первом действии в квартире актрисы Негиной: налево (от актеров) окно, в глубине, в углу, дверь в переднюю, направо перегородка с дверью в другую комнату; у окна стол, на нем несколько книг и тетрадей; обстановка бедная.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Домна Пантелевна (одна).
Домна Пантелевна (говорит в окно). Зайди денька через три-четыре; после бенефиста все тебе отдадим! А? Что? О, глухой! Не слышит. Бенефист у нас будет; так после бенефиста все тебе отдадим. Ну, ушел. (Садится.) Что долгу, что долгу! Туда рубль, сюда два… А каков еще сбор будет, кто ж его знает. Вот зимой бенефист брали, всего сорок два с полтиной в очистку-то вышло, да какой-то купец полоумный серьги бирюзовые преподнес… Очень нужно! Эка невидаль! А теперь ярмарка, сотни две уж всё возьмем. А и триста рублей получишь, нешто их в руках удержишь; все промежду пальцев уйдут, как вода. Нет моей Саше счастья! Содержит себя очень аккуратно, ну, и нет того расположения промежду публики: ни подарков каких особенных, ничего такого, как прочим, которые… ежели… Вот хоть бы князь… ну, что ему стоит! Или вот Иван Семеныч Великатов… говорят, сахарные заводы у него не один миллион стоят… Что бы ему головки две прислать; нам бы надолго хватило… Сидят, по уши в деньгах зарывшись, а нет, чтобы бедной девушке помочь. Я уж про купечество и не говорю – с тех что взять! Они и в театр-то не ходят; разве какой уж ошалеет совсем, так его словно ветром туда занесет… так от таких чего ожидать, окромя безобразия.
Входит Нароков.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Домна Пантелевна и Нароков.
Домна Пантелевна . А, Прокофьич, здравствуй!
Нароков (мрачно). Здравствуй, Прокофьевна!
Домна Пантелевна . Я не Прокофьевна, я Пантелевна, что ты!
Нароков . И я не Прокофьич, а Мартын Прокофьич.
Домна Пантелевна . Ах, извините, господин артист!
Нароков . Коли хотите быть со мной на «ты», так зовите просто Мартыном; все-таки приличнее. А что такое «Прокофьич»! Вульгарно, мадам, очень вульгарно!
Домна Пантелевна . Люди-то мы с тобой, батюшка, маленькие, что нам эти комплименты разводить.
Нароков . «Маленькие»? Я не маленький человек, извините!
Домна Пантелевна . Так неужели большой?
Нароков . Большой.
Домна Пантелевна . Так теперь и будем знать. Зачем же ты, большой человек, к нам, к маленьким людям, пришел?
Нароков . Так, в этом тоне и будем продолжать, Домна Пантелевна? Откуда это в вас озорство такое?
Домна Пантелевна . Озорство во мне есть, это уж греха нечего таить! Подтрунить люблю, и чтобы стеснять себя в разговоре с тобой, так я не желаю.
Нароков . Да откуда оно в вас, это озорство-то? От природы или от воспитания?
Домна Пантелевна . Ах, батюшки, откуда? Ну, откуда… Да откуда чему другому-то быть? Жила всю жизнь в бедности, промежду мещанского сословия: ругань-то каждый божий день по дому кругом ходила, ни отдыху, ни передышки в этом занятии не было. Ведь не из пансиона я, не с мадамами воспитывалась. В нашем звании только в том и время проходит, что все промеж себя ругаются. Ведь это у богатых деликатности разные придуманы.
Нароков . Резон. Понимаю теперь.
Домна Пантелевна . Так неужто ж со всяким нежничать, всякому, с позволения сказать… Сказала б я тебе словечко, да обижать не хочу. Неужто всякому «вы» говорить?
Нароков . Да, в простонародии все на «ты»…
Домна Пантелевна . «В простонародии»! Скажите, пожалуйста! А ты что за барин?
Нароков . Я барин, я совсем барин… Ну, давай на «ты», мне это не в диковину.
Домна Пантелевна . Да какая диковина; обыкновенное дело. В чем же твоя барственность?
Нароков . Я могу сказать тебе, как Лир: каждый вершок меня – барин. Я человек образованный, учился в высшем учебном заведении, я был богат.
Домна Пантелевна . Ты-то?
Нароков . Я-то!
Домна Пантелевна . Да ужли?
Нароков . Ну, что ж, божиться тебе, что ли?
Домна Пантелевна . Нет, зачем? Не божись, не надо; я и так поверю. Отчего же ты шуфлером служишь?
Нароков . Я не chou-fleur и не siffleur, мадам, и не суфлер даже, а помощник режиссера. Здешний-то театр был мой. ‹chou-fleur – цветная капуста (франц.), siffleur – свистун (франц.)›
Домна Пантелевна (с удивлением). Твой? Скажите на милость!
Нароков . Я его пять лет держал, а Гаврюшка-то был у меня писарем, роли переписывал.
Домна Пантелевна (с большим удивлением). Гаврила Петрович, ампренер здешний?
Нароков . Он самый.
Домна Пантелевна . Ах ты, горький! Так вот что. Значит, тебе в этом театрашном деле счастья бог не дал, что ли?
Нароков . Счастья! Да я не знал, куда девать счастье-то, вот сколько его было!
Домна Пантелевна . Отчего ж ты в упадок-то пришел? Пил, должно быть? Куда ж твои деньги девались?
Нароков . Никогда я не пил. Я все свои деньги за счастье-то и заплатил.
Домна Пантелевна . Да какое ж такое счастье у тебя было?
Нароков . А такое и счастье, что я делал любимое дело. (Задумчиво.) Я люблю театр, люблю искусство, люблю артистов, понимаешь ты? Продал я свое имение, денег получил много и стал антрепренером. А? Разве это не счастье? Снял здешний театр, отделал все заново: декорации, костюмы; собрал хорошую труппу и зажил, как в раю… Есть ли сборы, нет ли, я на это не смотрел, я всем платил большое жалованье аккуратно. Поблаженствовал я так-то пять лет, вижу, что деньги мои под исход; по окончании сезона рассчитал всех артистов, сделал им обед прощальный, поднес каждому по дорогому подарку на память обо мне…
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Александр Николаевич Островский
Таланты и поклонники
(Комедия в четырех действиях)
Действие первое
Лица:
...Александра Николавна Негина , актриса провинциального театра, молодая девица.
Домна Пантелевна , мать ее, вдова, совсем простая женщина лет за 40, была замужем за музыкантом провинциального оркестра.
Князь Ираклий Стратоныч Дулебов , важный барин старого типа, пожилой человек.
Григорий Антоныч Бакин , губернский чиновник на видном месте, лет 30.
Иван Семеныч Великатов , очень богатый помещик, владелец отлично устроенных имений и заводов, отставной кавалерист, человек практического ума, ведет себя скромно и сдержанно, постоянно имеет дела с купцами и, видимо, старается подражать их тону и манерам; средних лет.
Петр Егорыч Мелузов , молодой человек, кончивший курс в университете и ожидающий учительского места.
Нина Васильевна Смельская , актриса, постарше Негиной.
Мартын Прокофьич Нароков , помощник режиссера и бутафор, старик, одет очень прилично, но бедно; манеры хорошего тона.
Действие в губернском городе. В первом действии, в квартире актрисы Негиной: налево от актеров окно; в глубине, в углу, дверь в переднюю; направо перегородка с дверью в другую комнату; у окна стол, на нем несколько книг и тетрадей; обстановка бедная.
Явление первое
Домна Пантелевна одна.
Домна Пантелевна (говорит в окно) . Зайди денька через три-четыре; после бенефиста все тебе отдадим! А? Что? О, глухой! Не слышит. Бенефист у нас будет; так после бенефиста все тебе отдадим. Ну, ушел. (Садится.) Что долгу, что долгу! Туда рубль, сюда два… А каков еще сбор будет, кто ж его знает. Вот зимой бенефист брали, всего сорок два с полтиной в очистку-то вышло, да какой-то купец полоумный серьги бирюзовые преподнес… Очень нужно! Эка невидаль! А теперь ярмарка, сотни две уж все возьмем. А и триста рублей получишь, нешто их в руках удержишь; все промежду пальцев уйдут, как вода. Нет моей Саше счастья! Содержит себя очень аккуратно, ну, и нет того расположения промежду публики: ни подарков каких особенных, ничего такого, как прочим, которые… ежели… Вот хоть бы князь… Ну, что ему стоит! Или вот Иван Семеныч Великатов… говорят, сахарные заводы у него не один миллион стоят… Что бы ему головки две прислать: нам бы надолго хватило… Сидят, по уши в деньгах зарымшись, а нет, чтобы бедной девушке помочь. Я уж про купечество и не говорю – с тех что взять! Они и в театр-то не ходят; разве какой уж ошалеет совсем, так его словно ветром туда занесет… так от таких чего ожидать, окромя безобразия…
Входит Нароков.
Явление второе
Домна Пантелевна и Нароков.
Домна Пантелевна . А, Прокофьич, здравствуй!
Нароков (мрачно) . Здравствуй, Прокофьевна!
Домна Пантелевна . Я не Прокофьевна, я Пантелевна, что ты!
Нароков . И я не Прокофьич, а Мартын Прокофьич.
Домна Пантелевна . Ах, извините, господин аркист!
Нароков . Коли хотите быть со мной на ты, так зовите просто Мартыном; все-таки приличнее. А что такое «Прокофьич»! Вульгарно, мадам, очень вульгарно!
Домна Пантелевна . Люди-то мы с тобой, батюшка, маленькие, что нам эти комплименты разводить.
Нароков . «Маленькие»? Я не маленький человек, извините!
Домна Пантелевна . Так неужели большой?
Нароков . Большой.
Домна Пантелевна . Так теперь и будем знать. Зачем же ты, большой человек, к нам, к маленьким людям, пришел?
Нароков . Так, в этом тоне, и будем продолжать, Домна Пантелевна? Откуда это в вас озорство такое?
Домна Пантелевна . Озорство во мне есть, это уж греха нечего таить! Подтрунить люблю, и чтобы стеснять себя в разговоре с тобой, так я не желаю.
Нароков . Да откуда оно в вас, это озорство-то? От природы или от воспитания?
Домна Пантелевна . Ах, батюшка, откуда? Ну, откуда… Да откуда чему другому-то быть? Жила всю жизнь в бедности, промежду мещанского сословия; ругань-то каждый божий день по дому кругом ходила, ни отдыху, ни передышки в этом занятии не было. Ведь не из пансиона я, не с мадамами воспитывалась. В нашем звании только в том и время проходит, что все промеж себя ругаются. Ведь это у богатых деликатности разные придуманы.
Нароков . Резон. Понимаю теперь.
Домна Пантелевна . Так неужто ж со всяким нежничать, всякому, с позволения сказать… Сказала б я тебе словечко, да обижать не хочу. Неужто всякому «вы» говорить?
Нароков . Да, в простонародии все на ты…
Домна Пантелевна . «В простонародии»? Скажите, пожалуйста! А ты что за барин?
Нароков . Я барин, я совсем барин… Ну, давай на ты, мне это не в диковину.
Домна Пантелевна . Да какая диковина; обыкновенное дело. В чем же твоя барственность?
Нароков . Я могу сказать тебе, как Лир: каждый вершок меня – барин. Я человек образованный, учился в высшем учебном заведении, я был богат.
Домна Пантелевна . Ты-то?
Нароков . Я-то.
Домна Пантелевна . Да ужли?
Нароков . Ну что ж, божиться тебе, что ли?
Домна Пантелевна . Нет, зачем? Не божись, не надо; я и так поверю. Отчего же ты шуфлером служишь?
Нароков . Я не chou-fleur и не siffleur , мадам, и не суфлер даже, а помощник режиссера. Здешний-то театр был мой.
Домна Пантелевна (с удивлением) . Твой? Скажите на милость!
Нароков . Я его пять лет держал, а Гаврюшка-то был у меня писарем, роли переписывал.
Домна Пантелевна (с бульшим удивлением) . Гаврила Петрович, ампренёр здешний?
Нароков . Он самый.
Домна Пантелевна . Ах ты, горький! Так вот что. Значит, тебе в этом театрашном деле счастья Бог не дал, что ли?
Нароков . Счастья! Да я не знал, куда девать счастье-то, вот сколько его было!
Домна Пантелевна . Отчего ж ты в упадок-то пришел? Пил, должно быть? Куда ж твои деньги девались?
Нароков . Никогда я не пил. Я все свои деньги за счастье-то и заплатил.
Домна Пантелевна . Да какое ж такое счастье у тебя было?
Нароков . А такое и счастье, что я делал любимое дело. (Задумчиво.) Я люблю театр, люблю искусство, люблю артистов, понимаешь ты? Продал я свое имение, денег получил много и стал антрепренером. А? Разве это не счастье? Снял здешний театр, отделал все заново: декорации, костюмы; собрал хорошую труппу и зажил, как в раю… Есть ли сборы, нет ли, я на это не смотрел, я всем платил большое жалованье аккуратно. Поблаженствовал я так-то пять лет, вижу, что деньги мои под исход; по окончании сезона рассчитал всех артистов, сделал им обед прощальный, поднес каждому по дорогому подарку на память обо мне…
Домна Пантелевна . Ну, а что ж потом-то?
Нароков . А потом Гаврюшка снял мой театр, а я пошел в службу к нему; платит он мне небольшое жалованье да помаленьку уплачивает за мое обзаведение. Вот и все, милая дама.
Домна Пантелевна . Тем ты только и кормишься?
Нароков . Ну, нет, хлеб-то я себе всегда достану; я уроки даю, в газеты корреспонденции пишу, перевожу; а служу у Гаврюшки, потому что от театра отстать не хочется, искусство люблю очень. И вот я, человек образованный, с тонким вкусом, живу теперь между грубыми людьми, которые на каждом шагу оскорбляют мое артистическое чувство. (Подойдя к столу.) Что это за книги у вас?
Домна Пантелевна . Саша учится, к ней учитель ходит.
Нароков . Учитель? Какой учитель?
Домна Пантелевна . Студент. Петр Егорыч. Чай, знаешь его?
Нароков . Знаю. Кинжал в грудь по самую рукоятку!
Домна Пантелевна . Что больно строго?
Нароков . Без сожаления.
Домна Пантелевна . Погоди колоть-то: он жених Сашин.
Нароков (с испугом) . Жених?
Домна Пантелевна . Там еще, конечно, что Бог даст, а все-таки женихом зовем. Познакомилась она с ним где-то, ну, и стал к нам ходить. Как же его назвать-то? Ну и говоришь, что, мол, жених; а то соседи-то что заговорят! Да и отдам за него, коли место хорошее получит. Где ж женихов-то взять? Вот кабы купец богатый; да хороший-то не возьмет, а которые уж очень-то безобразны, тоже радость не велика. А за него что ж не отдать, парень смирный, Саша его любит.
Нароков . Любит? Она его любит?
Домна Пантелевна . Отчего ж его не любить? Что, в самом деле, по театрам-то трепаться молодой девушке! Никакой основательности к жизни получить себе нельзя!
Нароков . И это ты говоришь?
Домна Пантелевна . Я говорю, и уж давно говорю. Ничего хорошего, окромя дурного.
Нароков . Да ведь твоя дочь талант; она рождена для сцены.
Домна Пантелевна . Для сцены-то для сцены это точно, это уж что говорить! Она еще маленькая была, так, бывало, не вытащить ее из театра; стоит за кулисами, вся трясется. Муж-то мой, отец-то ее, был музыкант, на флейте играл, так, бывало, как он в театр, так и она за ним. Прижмется к кулисе, да и стоит, не дышит.
Нароков . Ну, вот видишь. Ей только на сцене и место.
Домна Пантелевна . Уж куда какое место прекрасное!
Нароков . Да ведь у нее страсть, пойми ты, страсть! Сама же ты говоришь.
Домна Пантелевна . Хоша бы и страсть, да хорошего-то в этом нет, похвалить-то нечего. Это вот вам, бездомовым да беспутным.
Нароков . О, невежество! Кинжал в грудь по рукоятку!
Домна Пантелевна . Да ну тебя с кинжалами! У вас путного-то на сцене немного; а я держу свою дочь на замужней линии. Со всех сторон там к ней лезут, да подлипают, да глупости разные в уши шепчут… Вот князь Дулебов повадился, тоже на старости лет ухаживать вздумал… Хорошо это? Как ты скажешь?
Нароков . Князь Дулебов! Кинжал в грудь по рукоятку!
Домна Пантелевна . Ох, уж много ты очень народу переколол.
Нароков . Много.
Домна Пантелевна . И все живы?
Нароков . А то как же? Конечно, живы, и все в добром здоровье, продли им, Господи, веку. На-ка, вот, отдай! (Подает тетрадку.)
Домна Пантелевна . Это что ж такое?
Нароков . Роль. Это я сам переписал для нее.
Домна Пантелевна . Да что ж это за парад такой? На тонкой бумаге, связано розовой ленточкой!
Нароков . Ну, да уж ты ей отдай! Что тут разговаривать!
Домна Пантелевна . Да к чему ж эти нежности при нашей бедности? Небось ведь за ленточку-то последний двугривенный отдал?
Нароков . Хоть и последний, так что ж из этого? Ручки у нее хорошенькие, душка еще лучше, нельзя же ей грязную тетрадь подать.
Домна Пантелевна . Да к чему, к чему это?
Нароков . Что ты удивляешься? Все это очень просто и естественно; так и должно быть, потому что я в нее влюблен.
Домна Пантелевна . Ах, батюшки! Час от часу не легче! Да ведь ты старик, ведь ты старый шут; какой ты еще любви захотел?
Нароков . Да ведь она хороша? Говори: хороша?
Домна Пантелевна . Ну, хороша; так тебе-то что ж?
Нароков . Кто ж хорошее не любит? Ведь и ты тоже хорошее любишь. Ты думаешь, коли человек влюблен, так сейчас гам… и съел? Из тонких парфюмов соткана душа моя. Где же тебе это понять!
Домна Пантелевна . А ведь ты чудак, как посмотрю я на тебя.
Нароков . Слава Богу, догадалась. Я и сам знаю, что чудак. Что ж ты меня обругать, что ли, этим словом-то хотела?
Домна Пантелевна (у окна) . Никак князь подъехал? И то он.
Нароков . Ну, так я уйду тут, через кухню. Адье, мадам.
Домна Пантелевна . Адьё, мусьё!
Нароков уходит за перегородку. Входят Дулебов и Бакин.
Явление третье
Домна Пантелевна, Дулебов, Бакин.
Домна Пантелевна . Дома нет, ваше сиятельство, уж извините! В гостиный двор пошла.
Дулебов . Ну, ничего, я подожду.
Домна Пантелевна . Как угодно, ваше сиятельство.
Дулебов . Вы делайте свое дело, не беспокойтесь, пожалуйста, я подожду.
Домна Пантелевна уходит.
Бакин . Вот мы и съехались, князь.
Дулебов . Ну, что же, здесь нетесно и для двоих.
Бакин . Но, во всяком случае, один из нас лишний, и этот лишний – я. Уж такое мне счастье: заехал к Смельской, там Великатов сидит, молчит.
Дулебов . А вы бы разговаривали. Вы разговаривать умеете, значит, шансы на вашей стороне.
Бакин . Не всегда, князь. Великатов и молчит-то гораздо убедительнее, чем я говорю.
Дулебов . Да почему же?
Бакин . Потому что богат. А так как, по русской пословице: «С богатым не тянись, а с сильным не борись», то я и ретируюсь. Великатов богат, а вы сильны своей любезностью.
Дулебов . Ну, а вы-то чем же хотите взять?
Бакин . Смелостью, князь. Смелость, говорят, города берет.
Дулебов . Города-то, пожалуй, легче… А впрочем… уж это ваше дело. Коли не боитесь проигрыша, так отчего ж и смелость не попробовать.
Бакин . Я лучше готов потерпеть неудачу, чем пускаться в любезности.
Дулебов . У всякого свой вкус.
Бакин . Ухаживать, любезничать, воскрешать времена рыцарства – уж это не много ли чести для наших дам!
Дулебов . У всякого свой взгляд.
Бакин . Мне кажется, очень довольно вот такой декларации: «Я вот таков, как вы меня видите, предлагаю вам то-то и то-то; угодно вам любить меня?»
Дулебов . Да, но ведь это оскорбительно для женщины.
Бакин . А уж это их дело, оскорбляться или нет. По крайней мере, я не обманываю; ведь не могу же я, при таком количестве дел, заниматься любовью серьезно: зачем же я буду притворяться влюбленным, вводить в заблуждение, возбуждать, может быть, какие-нибудь несбыточные надежды! То ли дело договор?
Дулебов . У всякого свой характер. Скажите, пожалуйста, что за человек Великатов?
Бакин . Я об нем знаю столько же, сколько и вы. Очень богат; великолепное имение в соседней губернии, свеклосахарный завод, да еще конный, да, кажется, винокуренный. Сюда приезжает он на ярмарку; продавать ли, покупать ли лошадей, уж я не знаю. Как он разговаривает с барышниками, я тоже не знаю; но в нашем обществе он больше молчит.
Дулебов . Он деликатный человек.
Бакин . Даже очень: никогда не спорит, со всеми соглашается, и никак не разберешь, серьезно он говорит или мистифирует тебя.
Дулебов . Но он очень учтивый человек.
Бакин . Уж слишком даже: в театре решительно всех по именам знает, и кассира, и суфлера, и даже бутафора, всем руку подает. А уж старух обворожил совсем: все-то он знает; во все их интересы входит; ну, одним словом, для каждой старухи сын самый почтительный и предупредительный.
Дулебов . А из молодых он, кажется, никому особого предпочтения не дает и держится как-то в стороне от них.
Бакин . С этой стороны, князь, будьте покойны, он вам соперник не опасный; он как-то сторонится от молодых и никогда первый не заговаривает; когда обратятся к нему, так у него только и слов: «Что прикажете? Что угодно?»
Дулебов . А может быть, это рассчитанная холодность, он хочет заинтересовать собою?
Бакин . Да на что ему рассчитывать! Он завтра или послезавтра уезжает.
Дулебов . Да… разве?
Бакин . Наверное. Он мне сам говорил: у него уж все приготовлено к отъезду.
Дулебов . Жаль! Он очень приятный человек, такой ровный, спокойный.
Бакин . Мне кажется, его спокойствие происходит от ограниченности; ума не скроешь, он бы в чем-нибудь выказался; а он молчит, значит, не умен; но и не глуп, потому что считает за лучшее молчать, чем говорить глупости. У него ума и способностей ровно столько, сколько нужно, чтобы вести себя прилично и не прожить того, что папенька оставил.
Дулебов . В том-то и дело, что папенька оставил ему имение разоренное, а он его устроил.
Бакин . Ну, прибавим ему еще несколько практического смысла и расчетливости.
Дулебов . Пожалуй, придется и еще что-нибудь прибавить, и выйдет очень умный, практический человек.
Бакин . Как-то верить не хочется. А впрочем, мне все равно, умен ли он, глуп ли; вот что богат очень, это немножко досадно.
Дулебов . Неужели?
Бакин . Право. Как-то невольно в голову приходит, что было бы гораздо лучше, если бы я был богат, а он беден.
Дулебов . Да, это для вас лучше, ну, а для него-то?
Бакин . А мне черт его возьми; что мне до него! Я про себя говорю. Однако пора и за дело. Уступаю вам место без бою. До свидания, князь!
Дулебов (подавая руку) . Прощайте, Григорий Антоныч!
Бакин уходит. Входит Домна Пантелевна.
Явление четвертое
Дулебов и Домна Пантелевна.
Домна Пантелевна . Ушли, не дождались?
Дулебов . Вы что за эту квартиру платите?
Домна Пантелевна . Двенадцать рублей, ваше сиятельство.
Дулебов (указывая в угол) . Тут сыро, должно быть!
Домна Пантелевна . По деньгам и квартира.
Дулебов . Надо будет переменить. (Отворяя дверь направо.) А там что?
Домна Пантелевна . Спальня Саши, а направо-то моя комната, а там кухня.
Дулебов (про себя) . Мизерно. Да… конечно, так невозможно.
Домна Пантелевна . По средствам, ваше сиятельство.
Дулебов . Пожалуйста, не говорите, чего не понимаете. Хорошей актрисе нельзя так жить, ну, нельзя, я вам говорю, невозможно. Это неприлично.
Домна Пантелевна . Какие же достатки?
Дулебов . Что такое за слово: «достатки»?
Домна Пантелевна . Из каких доходов, ваше сиятельство?
Дулебов . Какое же нам дело до ваших доходов!
Домна Пантелевна . Да где ж взять-то, ваше сиятельство?
Дулебов . Ну, «где взять»! Кому нужно! Никому до этого дела нет; где хотите, там и берите. Только так нельзя, это… это… ну, просто неприлично, да и все тут.
Домна Пантелевна . Вот кабы жалованье…
Дулебов . Ну, там жалованье или что другое, это уж ваше дело.
Домна Пантелевна . Бенефисты очень плохи берем.
Дулебов . А кто виноват? Чтобы брать большие бенефисы, нужно знакомство хорошее, нужно уметь его выбрать, уметь обходиться… Я могу вам назвать лиц десять, которых нужно привлечь на свою сторону; вот и великолепные бенефисы будут: и призы, и подарки. Это дело простое, давно всем известное. Нужно принимать у себя порядочных людей… А где же тут! Что это такое? Кто сюда поедет?
Домна Пантелевна . А ведь, кажется, публика ее любит, а вот в бенефист так… ничем не заманишь.
Дулебов . Какая публика? Гимназисты, семинаристы, лавочники, мелкие чиновники! Они рады все руки себе отхлопать, по десяти раз вызывают Негину, а уж ведь они, канальи, лишнего гроша не заплатят.
Домна Пантелевна . Что правда, то правда, ваше сиятельство. Конечно, кабы знакомство, так уж совсем другое дело.
Дулебов . Само собой. Публику винить нельзя, публика никогда виновата не бывает; это тоже общественное мнение, а на него жаловаться смешно. Надо уметь заслужить любовь публики. Надо, чтоб постоянно окружала вашу дочь богатая молодежь, ну, а главными-то, собственно, ее друзьями были бы мы, солидные люди. Все мы целый день заняты, кто семейными и хозяйственными делами, кто общественными, у нас свободны только несколько часов вечером; где же удобнее, как не у молодой актрисы, отдохнуть, так сказать, от бремени забот, одному – хозяйственных, а другому – о вверенном его управлению ведомстве или районе.
Домна Пантелевна . Уж это очень мудрено для меня, ваше сиятельство. Вы вот эти-то слова Саше и скажите.
Дулебов . Да, скажу, непременно скажу, я за этим и приехал.
Домна Пантелевна . Да вот, кажется, и она бежит.
Дулебов . Только уж вы нам не мешайте!
Домна Пантелевна . Ах, помилуйте, да разве я своему детищу враг!
Входит Негина.
Что ты так долго? Князь тебя давно дожидается. (Берет у дочери шляпку, зонтик, плащ и уходит.)
Явление пятое
Дулебов и Негина.
Дулебов (подходит и целует руку Негиной) . Ах, моя радость, а я вас заждался.
Негина . Извините, князь! С бенефисом все хлопочу, такая мука… (Задумывается.)
Дулебов (садясь) . Скажите, пожалуйста, мой дружочек…
Негина (выходя из задумчивости) . Что вам угодно?
Дулебов . Как эта пьеса, что вы в последний раз играли?..
Негина . «Уриель Акоста».
Дулебов . Да, да… Прекрасно вы играли, прекрасно! Сколько чувства, благородства! Не шутя вам говорю.
Негина . Благодарю вас, князь.
Дулебов . Странные пьесы нынче пишут; не поймешь ничего.
Негина . Да она уж давно написана.
Дулебов . Давно? Чья же она, Каратыгина или Григорьева?
Негина . Нет, Гуцкова.
Дулебов . А! Гуцкова… знаю, знаю. Еще у него есть комедия, прекрасная комедия: «Русский человек добро помнит».
Негина . То Полевого, князь.
Дулебов . Ах да… я смешал… Полевого… Николай Полевой. Он из мещан… По-французски выучился самоучкой, ученые книги писал, всё с французского брал… Только он тогда заспорил с кем-то… с учеными или с профессорами… Ну, где же, возможно ли, да и прилично ли! Ну, ему и не велели ученых книг писать, приказали водевили сочинять. После сам был благодарен, большие деньги получал. «Мне бы, говорит, и не догадаться». Что вы так печальны?
Негина . Много хлопот, князь.
Дулебов . Вам, моя красавица, надо веселее быть, вам еще рано задумываться; старайтесь развлекать себя, утешать чем-нибудь. Вот мы сейчас с вашей матушкой говорили…
Негина . Об чем, князь?
Дулебов . Разумеется, о вас, мое сокровище, а то о чем же! Вот квартира у вас нехороша… Нельзя актрисе, хорошенькой девушке, в такой избе жить; это неприлично.
Негина (несколько обидясь) . Нехороша квартира? Ну, так что же? Я и сама знаю, что бывают квартиры лучше этой… Вам бы, князь, пожалеть меня, не напоминать мне о моей бедности; я и без вас ее чувствую каждый час, каждую минуту.
Дулебов . Да разве я вас не жалею? Я вас очень жалею, красавица моя.
Негина . Так вы жалейте про себя, ваше сиятельство! Мне нет никакой пользы от ваших сожалений, а слышать их неприятно. Вы находите, что моя квартира нехороша; а я нахожу, что она удобна для меня, и мне лучше не надо. Вам моя квартира не нравится, вам неприятно бывать в такой квартире, так ведь никто вас не принуждает.
Дулебов . Не горячитесь, не горячитесь, моя радость! Вы не дослушаете, да и сердитесь на человека, который вам предан всей душой… Так нельзя…
Негина . Извольте говорить, я слушаю.
Дулебов . Я человек деликатный, я никогда никого не оскорблю, я известен своей деликатностью. Я бы никогда не посмел осуждать вашу квартиру, если б не имел в виду…
Негина . Чего, князь?
Дулебов . Предложить вам другую, лучше гораздо.
Негина . За ту же цену?
Дулебов . Ну, какое вам дело до цены?
Негина . Я что-то не понимаю, князь.
Дулебов . Вот видите ли, мое блаженство, я человек очень добрый, нежный – это тоже всем известно… я, несмотря на свои лета, до сих пор сохранил всю свежесть чувства… я еще до сих пор могу увлекаться, как юноша…
Негина . Я очень рада; но какое же отношение имеет все это к моей квартире?
Дулебов . Очень просто. Разве вы не замечаете? Я люблю вас… Лелеять вас, баловать… это было бы для меня наслаждением… это моя потребность; у меня очень много нежности в душе, мне нужно ласкать кого-нибудь, я без этого не могу. Ну, подойдите же ко мне, мой птенчик!
Негина (встает) . Вы с ума сошли!
Дулебов . Грубо, мой друг, грубо!
Негина . Да с чего вы вздумали? Помилуйте! Я вам никакого повода не подавала… Как вы осмелились выговорить?
Дулебов . Потише, потише, мой дружочек!
Негина . Это что ж такое! Приехать в чужой дом и ни с того ни с сего затеять глупый, обидный разговор.
Дулебов . Потише, потише, пожалуйста! Вы еще очень молоды, чтобы так разговаривать.
Негина . Вот это мило! «Вы еще молоды»! Значит, молодых можно обижать, сколько угодно, и они должны молчать.
Дулебов . Да какая тут обида? В чем обида? Дело самое обыкновенное. Вы не знаете ни жизни, ни порядочного общества и осмеливаетесь осуждать почтенного человека! Что вы, в самом деле! Вы меня обижаете!
Негина (в слезах) . Ах, Боже мой! Нет, это выше сил…
Дулебов . На все есть приличная форма, сударыня! В вас совсем нет благовоспитанности; не нравится вам мое предложение, вы должны были все-таки поблагодарить меня и высказать ваше нежелание учтиво или как-нибудь на шутку свести.
Негина . Ах, оставьте меня, пожалуйста! Не нужно мне ваших нравоучений. Я сама знаю, что мне делать, сама знаю, что хорошо, что дурно. Ах, Боже мой!.. Да не желаю я вас слушать.
Дулебов . Да что же вы кричите?
Негина . Отчего ж мне не кричать? Я у себя дома, кого ж мне бояться?
Дулебов . Прекрасно! Только вы помните, моя радость, я обиды не забываю.
Негина . Ну, хорошо, хорошо, буду помнить.
Дулебов . Извините, я думал, что вы девица благовоспитанная; я никак не мог ожидать, что вы от всякой малости расплачетесь и расчувствуетесь, как кухарка.
Негина . Да ну, хорошо; ну, я кухарка, только я желаю быть честной.
Домна Пантелевна показывается из двери.
Дулебов . И поздравляю вас! Только честности одной мало: надо быть и поумнее, и поосторожнее, чтобы потом не плакать. Билета мне не присылайте, я не поеду на ваш бенефис, мне некогда; а если вздумаю, так пошлю взять в кассе. (Уходит.)
Входит Домна Пантелевна.
Александр Николаевич Островский.
Таланты и поклонники
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЛИЦА:
Александра Николаевна Негина , актриса провинциального театра, молодая девица .
Домна Пантелевна , мать ее, вдова, совсем простая женщина, лет за 40, была замужем за музыкантом провинциального оркестра .
Князь Ираклий Стратоныч Дулебов , важный барин старого типа, пожилой человек .
Григорий Антоныч Бакин , губернский чиновник на видном месте, лет 30-ти .
Иван Семеныч Великатов , очень богатый помещик, владелец отлично устроенных имений и заводов, отставной кавалерист, человек практического ума, ведет себя скромно и сдержанно, постоянно имеет дела с купцами и, видимо, старается подражать их тону и манерам; средних лет .
Петр Егорыч Мелузов , молодой человек, кончивший курс в университете и ожидающий учительского места .
Нина Васильевна Смельская , актриса, постарше Негиной .
Мартын Прокофьич Нароков , помощник режиссера и бутафор, старик, одет очень прилично, но бедно; манеры хорошего тона .
Действие в губернском городе. В первом действии в квартире актрисы Негиной: налево (от актеров) окно, в глубине, в углу, дверь в переднюю, направо перегородка с дверью в другую комнату; у окна стол, на нем несколько книг и тетрадей; обстановка бедная.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Домна Пантелевна (одна).
Домна Пантелевна (говорит в окно). Зайди денька через три-четыре; после бенефиста все тебе отдадим! А? Что? О, глухой! Не слышит. Бенефист у нас будет; так после бенефиста все тебе отдадим. Ну, ушел. (Садится.) Что долгу, что долгу! Туда рубль, сюда два… А каков еще сбор будет, кто ж его знает. Вот зимой бенефист брали, всего сорок два с полтиной в очистку-то вышло, да какой-то купец полоумный серьги бирюзовые преподнес… Очень нужно! Эка невидаль! А теперь ярмарка, сотни две уж всё возьмем. А и триста рублей получишь, нешто их в руках удержишь; все промежду пальцев уйдут, как вода. Нет моей Саше счастья! Содержит себя очень аккуратно, ну, и нет того расположения промежду публики: ни подарков каких особенных, ничего такого, как прочим, которые… ежели… Вот хоть бы князь… ну, что ему стоит! Или вот Иван Семеныч Великатов… говорят, сахарные заводы у него не один миллион стоят… Что бы ему головки две прислать; нам бы надолго хватило… Сидят, по уши в деньгах зарывшись, а нет, чтобы бедной девушке помочь. Я уж про купечество и не говорю – с тех что взять! Они и в театр-то не ходят; разве какой уж ошалеет совсем, так его словно ветром туда занесет… так от таких чего ожидать, окромя безобразия.
Входит Нароков.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Домна Пантелевна и Нароков.
Домна Пантелевна . А, Прокофьич, здравствуй!
Нароков (мрачно). Здравствуй, Прокофьевна!
Домна Пантелевна . Я не Прокофьевна, я Пантелевна, что ты!
Нароков . И я не Прокофьич, а Мартын Прокофьич.
Домна Пантелевна . Ах, извините, господин артист!
Нароков . Коли хотите быть со мной на «ты», так зовите просто Мартыном; все-таки приличнее. А что такое «Прокофьич»! Вульгарно, мадам, очень вульгарно!
Домна Пантелевна . Люди-то мы с тобой, батюшка, маленькие, что нам эти комплименты разводить.
Нароков . «Маленькие»? Я не маленький человек, извините!
Домна Пантелевна . Так неужели большой?
Нароков . Большой.
Домна Пантелевна . Так теперь и будем знать. Зачем же ты, большой человек, к нам, к маленьким людям, пришел?
Нароков . Так, в этом тоне и будем продолжать, Домна Пантелевна? Откуда это в вас озорство такое?
Домна Пантелевна . Озорство во мне есть, это уж греха нечего таить! Подтрунить люблю, и чтобы стеснять себя в разговоре с тобой, так я не желаю.
Нароков . Да откуда оно в вас, это озорство-то? От природы или от воспитания?
Домна Пантелевна . Ах, батюшки, откуда? Ну, откуда… Да откуда чему другому-то быть? Жила всю жизнь в бедности, промежду мещанского сословия: ругань-то каждый божий день по дому кругом ходила, ни отдыху, ни передышки в этом занятии не было. Ведь не из пансиона я, не с мадамами воспитывалась. В нашем звании только в том и время проходит, что все промеж себя ругаются. Ведь это у богатых деликатности разные придуманы.
А.И. ЖУРАВЛЁВА, М.С. МАКЕЕВ. «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (1881)
В этом произведении Островский решает задачу создания психологической драмы в другом плане. Говоря о психологической драме применительно к пьесе «Таланты и поклонники», жанр которой сам драматург обозначил как комедию, мы ни в коем случае не хотим оспорить авторскую волю. Наоборот, следует настаивать на принципиальной важности и для Островского, и для понимания смысла пьесы в целом обозначить жанр именно так. Это жанровое обозначение является крайне значимым для понимания той специфической вариации психологического театра, которую Островский создал в рамках своей цельной драматургической системы.
Можно только поразиться, какой необычайной гибкостью обладает традиционная фабула борьбы за невесту, в качестве которой выступает Негина Александра Николавна. Она представляет собой вариацию устойчивого амплуа бедной невесты с использованием черт, традиционных для типа «провинциальной актрисы». Такая героиня впервые появляется в пьесах Островского (другая вариация на близкую тему - Кручинина из «Без вины виноватые»).
В основе построения этого образа - распространённый стереотип представлений о судьбе провинциальной актрисы как содержанки (см., например, Любиньку и Анниньку из «Господ Головлевых» М.Е. Салтыкова-Щедрина или героиню из рассказа А.П. Чехова «Панихида»). Островский признаёт долю справедливости в таких взглядах, но видит в этом печальную необходимость, диктуемую средой, условиями существования провинциального театра.
Развитие личности и сценическая судьба Негиной строятся на сопротивлении героини неприглядным требованиям жизни, необходимости разделить общую судьбу актрисы и желании сохранить чистоту, остаться «порядочной». Её любовь к искусству сталкивается с «поклонниками», антрепренёрами, с грязной, развратной, обывательской средой - средой, по сути враждебной искусству, подлинной красоте и вдохновению, жестоко мстящей не желающим соблюдать её правила. И это противоречие во многом оправдывает для Островского те моральные, нравственные жертвы, которые приносят актрисы, потому что в основе этих жертв бескорыстная, подлинно высокая любовь к сцене. Однако не всё так просто. Причастность к высокому искусству делает героиню более утончённой, более чувствительной к оскорблению, способной отзываться на чистоту и благородство других (например, в отличие от своей матери, Негина
способна понять подлинную цену скромных подарков Нарокова: «(Берёт письмо Нарокова.
) Ах, вот и это! И это надо сохранить на всю жизнь! Уж так меня никто любить не будет»). Она понимает, что не всё решают деньги.
В отличие от Мелузова, Негина экспансивна, Её речь более эффектна, актриса не стесняется высоких или нежных слов, (см. ремарки: «обнимает», «бросается на шею»). Её чувствам присуща подлинная глубина, тонкость и какая-то особенная деликатность и нежность. При этом она всё же недостаточно развита, образованна (как она сама выражается: «...значит, я глупа, значит, ничего не понимаю»), часто оказывается неспособной увидеть и выразить самое важное, подлинный нравственный смысл своих и чужих поступков. Негина много говорит, ярко и театрально, но не о главном, в её поведении и речах проявляется театральность в чистом виде.
Одновременно закулисная жизнь театра приучает Негину к роскошной и внешне яркой жизни. Одно из ключевых слов в её лексиконе «удовольствие»: «Ведь и в трудовой жизни есть свои удовольствия, Петя? Ведь бывают?». Уважение и сочувствие к речам молодого проповедника нравственных ценностей сочетаются у неё с желанием иметь, например, таких же лошадей, как у Великатова, а желание «привыкать к тихой семейной жизни» перебивается весёлой поездкой и ужином.
Это свойство характера актрисы даёт Островскому возможность сделать её объектом борьбы соперников, как бы использующих разные стороны её личности. Однако эти качества характера героини предстают не механической суммой прежде всего потому, что театральное призвание, любовь к театру оборачиваются ещё одной стороной. Её талант связан с иррациональным чувством (Нароков говорит о Негиной: «Да ведь у неё страсть, пойми ты, страсть!» - и сама она говорит о себе: «...хотя
за маленькое жалованье, да только б на сцене быть»), которое никак не соотносится с моральными ценностями. И всё дело здесь в том, что увиденное с такой стороны, с точки зрения Негиной и Нарокова, это призвание оказывается неразложимо на составные части, не разводимо по разным нравственным полюсам.
Проблема театра становится в пьесе своего рода сквозным мотивом, темой для обсуждения, само действие переносится в театральную среду и атмосферу. Как всегда, Островский точными штрихами создает специфическую сценическую обстановку: за сценой играются пьесы, звучат аплодисменты, на сцене появляются цветы и поклонники. И претенденты на руку молодой актрисы, представляющие снова вариации на традиционные для театра Островского амплуа, наделяются новым объединяющим их в цельную группу штрихом: легкомысленный псевдоаристократ Дулебов, пылкий разночинец - борец за правду, богатый делец, старый чудак, преданный бескорыстно девушке, оказываются представителями разных точек зрения на театр, ведущими очную и заочную о нём дискуссию. Моделью такой композиции, на наш взгляд, мог послужить Островскому гоголевский «Театральный разъезд...».
Имеют свои представления о театре и действующие лица, не включённые в центральную фабулу. Для Трагика театр - воплощение «благородства», выражающегося прежде всего в щедрых и эффектных жестах, потому скромность Мелузова вызывает у него пренебрежение. Для купчика Васи театральная среда и люди театра привлекательны как яркий противовес домашней купеческой обстановке: «...в доме у нас безобразие, а ты талант». Наконец, мать Негиной представляет самый меркантильный и простой взгляд на театр как на непривлекательное ремесло, приносящее плохие доходы. Разделяет эту позицию и антрепренёр Мигаев, для которого театр - это коммерческое предприятие, а количество сборов определяет качество артиста: «...но ведь мы судим... извините, ваше сиятельство, по карману: делает сборы большие, так и талант».
Спектр таких позиций очень широк и среди героев, заявляющих свои притязания на руку и сердце Негиной, - от легкомысленных и низких представлений Дулебова о театре как о низкопробном и вульгарном развлечении, а об актрисах как о потенциальных содержанках, разврат для которых - своего рода долг перед влиятельной частью публики, крайне откровенной и циничной позиции Бакина, воспринимающего желание молодой актрисы сохранить нравственную чистоту как личное унижение, до несколько комичной и одновременно трогательной любви к театру и Негиной-актрисе Нарокова, такой же страсти, какой охвачена и сама героиня. По отношению к театру сориентированы и основные претенденты на руку молодой актрисы - Мелузов и Великатов.
Великатов - герой, о котором много сказано в ремарке-описании («...очень богатый помещик, владелец отлично устроенных имений и заводов, отставной кавалерист, человек практического ума, ведёт себя скромно и сдержанно, постоянно имеет дела с купцами и, видимо, старается подражать их тону и манерам; средних лет»), принадлежит к уже описанному выше амплуа дельца нового типа. Если сравнить его с героями «Бесприданницы», воплощающими то же амплуа, Кнуровым и Вожеватовым, то он наделён чертами обоих: рационален и невероятно уверен в силе денег, как Кнуров, одновременно довольно эмоционален и коммуникабелен, как Вожеватов (обратим внимание на сходство фамилий, говорящих о вежливости и деликатности).
По отношению к театру и героине-актрисе эти черты Великатова трансформируются, и он превращается в богатого, достаточно тонкого ценителя искусства, всё же больше влюблённого в Негину как женщину, чем как актрису. Островский стремится не давать в данном случае слишком определённых оценок, но в целом, несомненно, Великатов принадлежит к отрицательному полюсу пьесы. Его главное оружие в борьбе за обладание Негиной, конечно, деньги, влияние, власть. Однако он достаточно разумен, чтобы внешне отодвинуть их на второй план, стараясь победить молодую актрису деликатностью, нежностью и благородством. Неизвестно, является ли сам герой носителем понятий о красоте и нравственности, но как минимум он способен понять их и оценить в других. Очень значимо то, что Великатов уважительно и справедливо относится к своему главному сопернику. При этом мы понимаем, что сам герой живёт по несколько иным законам и прямой путь к цели для него не самый лучший, в отличие от Мелузова.
В ремарке-описании Мелузов обозначен как «молодой человек, кончивший курс в университете и ожидающий учительского места». Его амплуа - «Чацкий» в его преломлении в творчестве Островского (ср., например, с Жадовым из «Доходного места»). Традиционная для этого персонажа отчужденность от общества («...при твоих гостях я всегда чувствую что-то неприятное, не то смущение, не то досаду, и вообще мне как-то неловко. Все они смотрят на меня или враждебно, или с насмешкой, чего я, как ты сама знаешь, не заслуживаю») представлена в данном случае как типично юношеское недоверие к миру, который априорно представляется враждебным, и потому так легко преодолевается при первом же проявлении доброжелательности со стороны окружающих: в ответ на приветствие Великатова: «Очень приятно с вами познакомиться» - Мелузов отвечает: «Что же тут приятного для вас? Ведь это фраза. Ну, познакомились, так и будем знакомы. Вот и всё», но после уверения в том, что это не дежурная фраза, его поведение моментально меняется: «Да, коли так... благодарю вас! (Подходит и горячо жмёт руку Великатову) ».
И его соперничество с Великатовым - это борьба человека практического, трезво понимающего жизнь, с наивным мечтателем, проповедующим благородные идеи, стремящимся воспитать молодую актрису в духе начал нравственности.
Образ Мелузова несёт в себе черты, типичные для разночинца: эмоциональная сдержанность, неуклюжесть поведения в обществе, стремление к прямому честному жизненному поведению, как бы к полной «ясности» в словах и поступках. Он ощущает себя чуждым театральной и «аристократической» среде: «А я вторгся, так сказать, в чужое владенье, в область беспечального пребывания, беззаботного времяпрепровождения, в сферу красивых, весёлых женщин, в сферу шампанского, букетов, дорогих подарков. Ну как же не смешно! Конечно, смешно». Однако у него свой круг интересов и свой предмет гордости: «...у нас, у горемык, у тружеников, есть свои радости, которые вам недоступны. Дружеские беседы за стаканом чаю, за бутылкой пива о книжках, которые вы не читаете, о движении науки, которую вы не знаете, об успехах цивилизации, которыми вы не интересуетесь. Чего ж нам ещё!».
Мелузов умён и, в отличие от Негиной, легко схватывает суть любой ситуации и способен выразить её в точной афористической форме. При этом для него характерна необычная для такого типа героя неразговорчивость, скупость на монологи и излияния. Его речь сочетает просторечия («Ну и по этой части я тоже швах. Вот получу место, запрягусь; тогда будем жить безбедно», «Зашагаем ко дворам! Ничего не поделаешь!»), моралистические сентенции («Разве талант и разврат нераздельны?»; «Я просвещаю, а вы развращаете»; «И умней оттого, что я больше думаю, чем говорю; а вы больше говорите, чем думаете»; «Зависть да ревность - опасные чувства: мужчины это знают хорошо и пользуются вашей слабостью. Из зависти да из ревности женщина много дурного способна натворить»; «Какое мне дело до князя! Нравственные законы для всех одинаковы»).
Речи Мелузова несвойственна любовная лексика, во всём, связанном с этой сферой, герой деликатен и одновременно неловок («Так ты постепенно и улучшаешься и со временем будешь... Будешь совсем хорошей женщиной, такой, какой надо, как это нынче требуется от вашего брата»). Сдержанность персонажа отражается в скупости ремарок, описывающих движения и жесты. Мелузов, в отличие от Негиной, говорит о главном, но при этом чрезвычайно скупо.
К театру он относится равнодушно, готовя будущую жену к иной, более простой и честной жизни. Только даваемая сценой возможность проповеди высоких нравственных ценностей не примиряет, а, скорее, делает для него театр одним из возможных видов человеческой деятельности.
Великатов, Мелузов и Негина как бы воплощают три силы, сосуществующие и борющиеся в мире: силу денег и власти, дающих роскошь и удовольствия: силу свободного и праведного слова и дела и силу искусства, прежде всего искусства театра. Эта борьба и становится содержанием ещё одной истории, значительно более камерной и менее скандальной, чем судьба Ларисы Огудаловой.
Действие в пьесах Островского, как мы видели уже в «Бесприданнице», происходит как бы на двух уровнях: претенденты сталкиваются во внешней борьбе, оказываясь в ситуации, требующей от них проявления лучших качеств, и одновременно сама девушка совершает свой выбор между ними, которому помогает одна из черт её характера. Эти два конфликта практически всегда развиваются параллельно, претерпевая одновременно поворотные и кульминационные моменты, вместе приходя и к развязке. Торжество одного из соперников во внешнем действии совпадает с разрешением конфликта внутреннего. Внутреннее и внешнее в театре Островского неразделимы и неразличимы, и в этом проявляется фундаментальный закон классической драмы: всё внутреннее должно находить внешнее воплощение в реплике, монологе, поступке персонажа. В «Талантах и поклонниках» Островский впервые для себя разводит внешнее и внутреннее. Внешнюю сторону действия представляет конфликт, соперничество Мелузова и Великатова, соперничество дурного и доброго начал, внутреннее движение души главной героини основывается на страсти к театру.
Внешнее действие пьесы строится на заговоре дурного провинциального общества против молодой актрисы, осмелившейся бросить ему вызов и отказаться от «покровительства» и жизни содержанки. Когда же выясняется, что под давлением «отцов города» администрация отказалась от возобновления ангажемента Негиной (и к тому же сделано это было в крайне неудобный момент, когда актриса, уверенная в возобновлении контракта, отклонила ряд предложений и не может устроиться в другую труппу), а также стало известно, что общество собирается устроить провал её бенефиса, - на авансцену выходят главные претенденты на её сердце. Эта ситуация внешне типична для борьбы за невесту, честь, карьера и материальное благосостояние которой поставлены под угрозу. Выигрыш в таком поединке (при том не обязательно материальный, но прежде всего моральный) и даёт право на обладание невестой одному из соперников.
Вмешательство Мелузова ничем не заканчивается. Как и положено «Чацкому», он полагает, что, высказав всё прямо, назвав вещи своими именами, можно одержать победу. И, естественно, сталкивается с равнодушием и бессовестностью общества, нечувствительного и к его моральным проповедям, и к его разоблачениям. Может быть, он и одерживает моральную победу, но реального успеха добиться не может. Дело решает вмешательство Великатова, деньги и влияние которого обеспечивают невероятный успех последнему выступлению Негиной.
Однако этот эпизод не играет решающей роли в окончательном выборе Негиной. В соперниках не проявляется ничего нового. Мелузов и не собирался предоставлять молодой актрисе возможность сделать театральную карьеру, его ценой была добродетельная, честная, но очень скромная жизнь, скорее всего, не связанная с театром. Великатов, верный своей тактике не выставлять в качестве орудия давления богатство, преподносит свой
поступок как чисто коммерческое предприятие, которое должно принести ему доход, и делает это так, что даже Мелузов, болезненно чувствительный, как всякий «Чацкий», к благотворительности, склонный подозревать в ней скрытый подкуп или унизительную милость, признает, что в происшедшем нет никакого унижения и ничего непристойного.
Решение оставлено для следующей сцены, в которой уже нет реальной борьбы между соперниками, нет эффектных поз и решающих поступков. Именно теперь Негина делает свой выбор. Покупая её бенефис, Великатов даёт молодой актрисе возможность ещё раз пережить сладость успеха, почувствовать триумф. Он даёт ей возможность сотворить вместе со зрителем чудо искусства.
Говоря о сценической обстановке пьесы, мы упомянули о своеобразной дискуссии на тему театра, ведущейся на протяжении всего действия. Вероятно, слово «дискуссия» не совсем точное в данном случае. Его неточность заключается в том, что оно предполагает победу и справедливость одной точки зрения, в то время как для Островского театр в своих высших проявлениях, во взлётах таланта, соединённых с любовью и восторгом публики, соединяет в себе всё: и коммерческое предприятие, и славу, и моральное поучение, и легкомысленное поведение, и роскошь, и внешний блеск, и самоотверженный аскетический труд.
В предпоследнем действии мы видим Негину, которой открылся мир, сочетающий в себе и дорогие подарки Великатова, готового бросить к её ногам все свои богатства, и скромные, но удивительно искренние приношения Нарокова, и мужественно сдержанное признание Мелузова, интеллигента, неоднозначно относящегося к искусству. И открыть ей этот мир, точнее, позволить удержаться в нём может только Великатов с его деньгами и влиянием. И, выбирая Великатова, она выбирает не роскошь и удовольствия, она выбирает театр.
Всё четвёртое действие посвящено принятию героиней решения. Сам приём оттягивания финала, давно предусмотренного, выбора, уже сделанного, не нов, а вполне традиционен для классической драмы. Его можно найти, например, у Шекспира, где подобному замедлению служат риторические монологи, задерживающие решение нагромождением тропов. Такое замедление не психологично, ничего не вносит в ясный заранее характер.
Ново и ведёт к подлинному психологизму здесь другое. На протяжении всего действия об этом решении и причинах, которые его обусловили, не говорится, о нём умалчивается. Диалог Негиной с матерью построен на том, что Домна Пантелеевна на свой вопрос хочет получить от дочери прямой ответ, который для Негиной невозможен: «Разве это “дело”? Ведь это позор... Как тут думать, об чем думать, об чем разговаривать?». От нежелания говорить о своём решении она даже предлагает бросить матери жребий. Только в последней реплике седьмого явления на это почти однозначно намекается: «Ну, я ваша, что хотите со мной делайте, но душа-то у меня своя. Я к Пете. Ведь он меня любит, он меня жалеет, он нас с вами добру учил... Я теперь такая добрая, такая честная, какой никогда ещё не
была и, может быть, завтра уже не буду. На душе у меня очень хорошо, очень честно, не надо этому мешать».
И это умалчивание, хотя за ним и стоит решение, о котором мы догадываемся, придает новую сложность эмоциям героини. Умолчание вместе с ощущением ясности того, о чём умалчивается, придаёт качество невыразимости и сложности этому чувству. Все поступки, жесты, реплики этого эпизода, чтение писем, катание на лошадях, цветы, поклонники и подарки - всё приобретает нагрузку и способствует решению задачи косвенно выразить чувство, создавая впечатление его подлинной невыразимости простыми и ясными словами, передать ощущение того, что весь комплекс переживаний Негиной, сопутствующий принятию ею решения, выбора судьбы, не поддаётся рациональному объяснению.
Приём умалчивания о понятном используется и в сцене прощания на вокзале. Реплики Негиной легко и по-своему справедливо могут быть названы лживыми. Она говорит о театре, о своём призвании и страсти как о причине падения, но её объяснения, почему же для того, чтобы следовать своему призванию, надо стать содержанкой, подчиниться той участи, которая её больше всего возмущала, выглядят жалкой попыткой оправдания и легко опровергаются Мелузовым, на чьи вопросы она не находит ответа («Негина. <...> Что ж мне быть укором для других? Вы, мол, вот какие, а я вот какая...честная!.. Да другая, может быть, и не виновата совсем <...> Мелузов. Саша, Саша, да разве хорошая жизнь - укор для других? Честная жизнь - хороший пример для подражания»).
Вероятно, точнее было бы говорить о том, что последний диалог героев является следствием и кульминацией их речевых ролей в пьесе. Негина говорит много, театрально и эмоционально, но она не способна, как уже было замечено выше, сказать самого важного. Потому её жесты, отчасти даже комичные и неадекватные ситуации, вносят в этот эпизод типичный для пьес Островского оттенок юмора («Я как сбиралась, всё плакала о
тебе. На вот! (Достаёт из дорожной сумки волосы, завёрнутые в бумажку.)
Я у себя отрезала полкосы для тебя. Возьми на память. Мелузов (кладёт в карман
). Благодарю, Саша. Негина. Если
хочешь, я еще отрежу, хоть сейчас. (Достаёт из сумки ножницы.)
На, отрежь сам! Мелузов. Не надо, не надо»).
Мелузов, как всегда, точно и рационально оценивает ситуацию. Островский явно мотивирует решение Негиной уехать тайно от жениха именно её боязнью его правдивого, проникающего в душу слова, перед которым трудно оправдаться и невозможно лгать. И Мелузов, действительно, скупыми, сдержанными словами напутствует Негину, как бы давая последнюю оценку её выбору судьбы: «Живи, как хочешь, как умеешь! Я одного только желаю, чтоб ты была счастлива, Саша! Ты обо мне и об моих словах забудь; а хоть как-нибудь, уж по-своему, сумей найти своё счастье. Вот и всё, и вопрос жизни решён для тебя».
Для героя, воплощающего амплуа проповедника, сурового моралиста, такой поступок может показаться парадоксальным. Нужно, однако, иметь в виду специфическое понимание подобного типа у Островского, ту трансформацию, которую этот мировой тип претерпел в художественном мире драматурга. Это как бы «смягчённый» Чацкий, введённый в гуманный, основанный на идее компромисса и терпимости художественный мир Островского. Островский как бы «расщепляет» цельный образ-архетип. Будучи нетерпимым, враждебным всякой подлости (персонажам типа Дулебова и Бакина), предельно жестоким и бескомпромиссным по отношению к самому себе (его сюжетное поражение не ведёт к признанию несостоятельности
проповедуемых им идей и жизненных принципов; заключительный монолог Мелузова декларирует верность избранной позиции: «Я же своё дело буду делать до конца. А если я перестану учить, перестану верить в возможность улучшать людей или малодушно погружусь в бездействие и махну рукой на всё, тогда покупайте мне пистолет, спасибо скажу»), герой демонстрирует отсутствие ригоризма, жесткости в отношении иного, основанного на другом типе ценностей способа жизни.
Позиция Мелузова, который воздерживается от оценки поступка героини, не отвечая на её «падение» суровой отповедью (как, например, Цыплунов в «Богатых невестах»), но демонстрируя способность понимания её позиции, сострадания, удостоверяет нас в том, что за нелепыми и лживыми словами Негиной стоит истинная страсть, истинное чувство, выразить которое недоступно этой всё-таки простой и «глупой» девушке, по её же выражению, но оно и не требует прямого называния.
Подобно лирическому тексту, здесь мы видим апелляцию не к загадочному в поведении героини (как это было в «Бесприданнице»), а к общепонятному. Подразумевается, что всё происходящее доступно и близко всем, способным на сердечное участие (это «и так всем ясно»), и именно в силу своей общепонятности не до конца выразимо, - этим и достигается внутреннее напряжение. Так Островский подходит к психологизму с другой стороны, сочетая глубину и прозрачность, когда общепонятное чувство не называется прямо и потому обретает глубину и неисчерпаемость. Сам характер героини принимает ощущение невероятной сложности, далеко не исчерпывающейся её ролью в истории, которая внешне основана на борьбе дурного и доброго, роскошной безнравственной жизни и честного бедного труда и которую нельзя исчерпать никаким точным и афористическим суждением.
Это сочетание глубины и прозрачности, достигаемое с помощью умолчания, паузы, пустого, не относящегося к делу разговора, связывают прежде всего с новаторством драматургии
Чехова. Мы не будем здесь ни утверждать приоритет Островского в изобретении этого драматургического приёма, ни тем более говорить о нём как о «предшественнике» Чехова. Мы хотели бы подчеркнуть различия между ними.
Психологизм Чехова вырастает из специфической философии, своеобразного понимания времени и пространства человеческой жизни. Внутреннее становится не выразимым через
внешние проявления прежде всего потому, что человек как бы отделён от всего внешнего. Мир вещей и событий вместе с временем жизни протекает мимо него, в то время как сам он остаётся неизменным. Жизнь проходит мимо, оставляя человека с его одиночеством и отчаянием. Время - враг человека, усугубляющий его положение. Сложность и следующая из неё невыразимость внутренней жизни человека потому и ведёт к отсутствию контакта между людьми.
В пьесах Островского ощущение времени и пространства играет не менее важную роль, чем у Чехова. Для него в текучести времени, способного приносить в жизнь человека всё
новые и новые события, источник надежды и оптимизма. Время - союзник человека, потому что человек принадлежит ему. В мире Островского непоправима только смерть, отказ положиться на ход событий, на естественное течение времени. С точки зрения писателя, всякое убийство или самоубийство - поступок опрометчивый, это не выход из положения. Если в жизни закономерно дурное, то закономерно и хорошее, светлое.
Поэтому если «Бесприданница» - драма, то «Таланты и поклонники» - комедия, хотя, на наш современный взгляд, в финале этой пьесы и звучат необычайно щемящие ноты. Да,
жизнь складывается не так, как хотелось бы, и молодой актрисе нельзя осуществить своё призвание, не пожертвовав нравственными принципами, но жизнь продолжается и надежда остаётся.
Таким образом, и в этой пьесе, подходя, казалось бы, к чеховским принципам психологизма, Островский остается самим собой. Последняя сцена всё-таки говорит о бесконечной возможности взаимопонимания, способности человека к общению и умению жить и быть погружённым в смысл, несмотря ни на что. «Таланты и поклонники» несут в себе традиционные, типичные для Островского представления о мире, он не стремится
показать трагедию одиночества человеческого существования.
Так созданный в рамках собственной драматургической системы Островского «компромиссный» вариант психологической драмы, сочетающий и принципы традиционных амплуа, включённых в устойчивую фабулу, и обозначение сложности человеческой личности, не укладывающейся в эти рамки, выражает изначальную мысль драматурга о любви и жалости к человеку, который, преодолевая все трудности и парадоксальности жизни, всё более и более в них нуждается.
Александр Николаевич Островский.
Таланты и поклонники
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЛИЦА:
Александра Николаевна Негина , актриса провинциального театра, молодая девица .
Домна Пантелевна , мать ее, вдова, совсем простая женщина, лет за 40, была замужем за музыкантом провинциального оркестра .
Князь Ираклий Стратоныч Дулебов , важный барин старого типа, пожилой человек .
Григорий Антоныч Бакин , губернский чиновник на видном месте, лет 30-ти .
Иван Семеныч Великатов , очень богатый помещик, владелец отлично устроенных имений и заводов, отставной кавалерист, человек практического ума, ведет себя скромно и сдержанно, постоянно имеет дела с купцами и, видимо, старается подражать их тону и манерам; средних лет .
Петр Егорыч Мелузов , молодой человек, кончивший курс в университете и ожидающий учительского места .
Нина Васильевна Смельская , актриса, постарше Негиной .
Мартын Прокофьич Нароков , помощник режиссера и бутафор, старик, одет очень прилично, но бедно; манеры хорошего тона .
Действие в губернском городе. В первом действии в квартире актрисы Негиной: налево (от актеров) окно, в глубине, в углу, дверь в переднюю, направо перегородка с дверью в другую комнату; у окна стол, на нем несколько книг и тетрадей; обстановка бедная.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Домна Пантелевна (одна).
Домна Пантелевна (говорит в окно). Зайди денька через три-четыре; после бенефиста все тебе отдадим! А? Что? О, глухой! Не слышит. Бенефист у нас будет; так после бенефиста все тебе отдадим. Ну, ушел. (Садится.) Что долгу, что долгу! Туда рубль, сюда два… А каков еще сбор будет, кто ж его знает. Вот зимой бенефист брали, всего сорок два с полтиной в очистку-то вышло, да какой-то купец полоумный серьги бирюзовые преподнес… Очень нужно! Эка невидаль! А теперь ярмарка, сотни две уж всё возьмем. А и триста рублей получишь, нешто их в руках удержишь; все промежду пальцев уйдут, как вода. Нет моей Саше счастья! Содержит себя очень аккуратно, ну, и нет того расположения промежду публики: ни подарков каких особенных, ничего такого, как прочим, которые… ежели… Вот хоть бы князь… ну, что ему стоит! Или вот Иван Семеныч Великатов… говорят, сахарные заводы у него не один миллион стоят… Что бы ему головки две прислать; нам бы надолго хватило… Сидят, по уши в деньгах зарывшись, а нет, чтобы бедной девушке помочь. Я уж про купечество и не говорю – с тех что взять! Они и в театр-то не ходят; разве какой уж ошалеет совсем, так его словно ветром туда занесет… так от таких чего ожидать, окромя безобразия.
Входит Нароков.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Домна Пантелевна и Нароков.
Домна Пантелевна . А, Прокофьич, здравствуй!
Нароков (мрачно). Здравствуй, Прокофьевна!
Домна Пантелевна . Я не Прокофьевна, я Пантелевна, что ты!
Нароков . И я не Прокофьич, а Мартын Прокофьич.
Домна Пантелевна . Ах, извините, господин артист!
Нароков . Коли хотите быть со мной на «ты», так зовите просто Мартыном; все-таки приличнее. А что такое «Прокофьич»! Вульгарно, мадам, очень вульгарно!
Домна Пантелевна . Люди-то мы с тобой, батюшка, маленькие, что нам эти комплименты разводить.
Нароков . «Маленькие»? Я не маленький человек, извините!
Домна Пантелевна . Так неужели большой?
Нароков . Большой.
Домна Пантелевна . Так теперь и будем знать. Зачем же ты, большой человек, к нам, к маленьким людям, пришел?
Нароков . Так, в этом тоне и будем продолжать, Домна Пантелевна? Откуда это в вас озорство такое?
Домна Пантелевна . Озорство во мне есть, это уж греха нечего таить! Подтрунить люблю, и чтобы стеснять себя в разговоре с тобой, так я не желаю.
Нароков . Да откуда оно в вас, это озорство-то? От природы или от воспитания?
Домна Пантелевна . Ах, батюшки, откуда? Ну, откуда… Да откуда чему другому-то быть? Жила всю жизнь в бедности, промежду мещанского сословия: ругань-то каждый божий день по дому кругом ходила, ни отдыху, ни передышки в этом занятии не было. Ведь не из пансиона я, не с мадамами воспитывалась. В нашем звании только в том и время проходит, что все промеж себя ругаются. Ведь это у богатых деликатности разные придуманы.
Нароков . Резон. Понимаю теперь.
Домна Пантелевна . Так неужто ж со всяким нежничать, всякому, с позволения сказать… Сказала б я тебе словечко, да обижать не хочу. Неужто всякому «вы» говорить?
Нароков . Да, в простонародии все на «ты»…
Домна Пантелевна . «В простонародии»! Скажите, пожалуйста! А ты что за барин?
Нароков . Я барин, я совсем барин… Ну, давай на «ты», мне это не в диковину.
Домна Пантелевна . Да какая диковина; обыкновенное дело. В чем же твоя барственность?
Нароков . Я могу сказать тебе, как Лир: каждый вершок меня – барин. Я человек образованный, учился в высшем учебном заведении, я был богат.
Домна Пантелевна . Ты-то?
Нароков . Я-то!
Домна Пантелевна . Да ужли?
Нароков . Ну, что ж, божиться тебе, что ли?
Домна Пантелевна . Нет, зачем? Не божись, не надо; я и так поверю. Отчего же ты шуфлером служишь?
Нароков . Я не chou-fleur и не siffleur, мадам, и не суфлер даже, а помощник режиссера. Здешний-то театр был мой. ‹chou-fleur – цветная капуста (франц.), siffleur – свистун (франц.)›
Домна Пантелевна (с удивлением). Твой? Скажите на милость!
Нароков . Я его пять лет держал, а Гаврюшка-то был у меня писарем, роли переписывал.
Домна Пантелевна (с большим удивлением). Гаврила Петрович, ампренер здешний?
Нароков . Он самый.
Домна Пантелевна . Ах ты, горький! Так вот что. Значит, тебе в этом театрашном деле счастья бог не дал, что ли?
Нароков . Счастья! Да я не знал, куда девать счастье-то, вот сколько его было!
Домна Пантелевна . Отчего ж ты в упадок-то пришел? Пил, должно быть? Куда ж твои деньги девались?
Нароков . Никогда я не пил. Я все свои деньги за счастье-то и заплатил.
Домна Пантелевна . Да какое ж такое счастье у тебя было?
Нароков . А такое и счастье, что я делал любимое дело. (Задумчиво.) Я люблю театр, люблю искусство, люблю артистов, понимаешь ты? Продал я свое имение, денег получил много и стал антрепренером. А? Разве это не счастье? Снял здешний театр, отделал все заново: декорации, костюмы; собрал хорошую труппу и зажил, как в раю… Есть ли сборы, нет ли, я на это не смотрел, я всем платил большое жалованье аккуратно. Поблаженствовал я так-то пять лет, вижу, что деньги мои под исход; по окончании сезона рассчитал всех артистов, сделал им обед прощальный, поднес каждому по дорогому подарку на память обо мне…
Домна Пантелевна . Ну, а что ж потом-то?
Нароков . А потом Гаврюшка снял мой театр, а я пошел в службу к нему; платит он мне небольшое жалованье да помаленьку уплачивает за мое обзаведение. Вот и все, милая дама.
Домна Пантелевна . Тем ты только и кормишься?
Нароков . Ну нет, хлеб-то я себе всегда достану; я уроки даю, в газеты корреспонденции пишу, перевожу; а служу у Гаврюшки, потому что от театра отстать не хочется, искусство люблю очень. И вот я, человек образованный, с тонким вкусом, живу теперь между грубыми людьми, которые на каждом шагу оскорбляют мое артистическое чувство. (Подойдя к столу.) Что это за книги у вас?
Домна Пантелевна . Саша учится, к ней учитель ходит.
Нароков . Учитель? Какой учитель?
Домна Пантелевна . Студент. Петр Егорыч. Чай, знаешь его?
Нароков . Знаю. Кинжал в грудь по самую рукоятку!
Домна Пантелевна . Что больно строго?
Нароков . Без сожаленья.
Домна Пантелевна . Погоди колоть-то: он жених Сашин.
Нароков (с испугом). Жених?
Домна Пантелевна . Там еще, конечно, что бог даст, а все-таки женихом зовем. Познакомилась она с ним где-то, ну и стал к нам ходить. Как же его назвать-то? Ну и говоришь, что, мол, жених; а то соседи-то что заговорят! Да и отдам за него, коли место хорошее получит. Где ж женихов-то взять? Вот кабы купец богатый; да хороший-то не возьмет; а которые уж очень-то безобразны, тоже радость не велика. А за него что ж не отдать, парень смирный, Саша его любит.