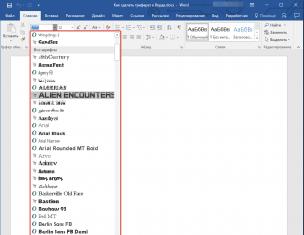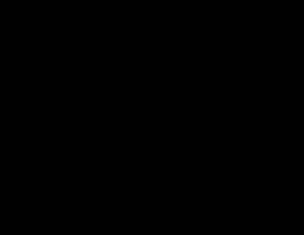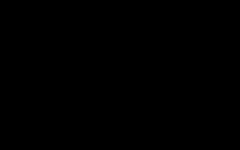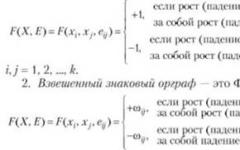Замысел книги относится к весне 1845 года, к периоду затяжного приступа болезни и душевной депрессии писателя. Из предисловия мы узнаем, что, будучи при смерти, он написал завещание, которое является I частью книги. Завещание не заключает в себе никаких личных, семейных подробностей, оно состоит из интимной беседы автора с Россиею, т.е. автор говорит и наказывает, а Россия его слушает и обещает выполнить. Завещание было пронизано религиозно-мистическими настроениями, а претензионный проповеднический тон обращения к соотечественникам, соответствовал общему пафосу и идейному замыслу “Выбранных мест”. За предисловием и завещанием следуют письма. В этих письмах автор изображает себя как бы прозревшим вследствие своей болезни, исполнившимся духа любви, кротости и в особенности смирения…
Содержание их соответствует такому духу: это не письма, а скорее строгие и иногда грозные увещания учителя ученикам… Он поучает, наставляет, советует, упрекает, прощает и т.д. К нему все обращаются с вопросами, и он никого не оставляет без ответа. Он сам говорит: “Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета: “В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим я ничуть не умнее никого”.
Он сам сознает себя чем-то вроде сельского священника или даже папы своего католического мира. В своей книге он доказывал, что православная церковь и русское духовенство - это одно из спасительных начал не только для России, но и для Европы. Даже о русском самодержавии он стал говорить, что оно имеет народный характер. Он стал оправдывать закрепощение крестьян. Выход “Выбранных мест…” навлек на их автора настоящую критическую бурю.
Резкой и принципиальной критике книга была подвергнута Белинским в рецензии “Современника” и особенно в письме к Гоголю от 15 июля 1847 год. из Зальцбурга. Советы и поучения “Переписки” были так далеки по своему содержанию от того, что несли прежние создания Гоголя, и Белинский немедленно на них откликнулся. Статью в “Современнике” о “Выбранных местах” он публикует сразу же после выхода книги, почти поспешно, чувствуя потребность немедленно ответить ее автору. Непростительным представляется Белинскому самобичевание Гоголя, называющего все прежние свои сочинения “необдуманными и незрелыми”, смешны в устах автора “Ревизора” наивные уверения, что взяточничество в России уменьшилось бы, если бы жены чиновников наперебой не стремились блистать в свете. Дикими выглядят советы “касательно сельского суда и расправы” и попытки научить помещика ругаться с мужиками в “воспитательных” целях”. “Что это такое? где мы?” - спрашивает Белинский, и кажется, что эти возгласы отчаяния заставили Гоголя возражать Белинскому в письме, написанном (20 июня 1847 года и вызвавшем ответ Белинского.
Письмо к Гоголю занимает совершенно особое место в наследии Белинского, да и во всей истории русской общественной мысли. Поскольку письмо не предназначалось для печати, в нем критик мог высказаться с полной откровенностью. Белинский выступает в нем с проповедью необходимости для России уничтожения крепостного права и самодержавия, за просвещение народа. Он отвергает гоголевский взгляд на русский народ как народ религиозный в своей основе и высмеивает веру в спасительную и просветительную роль духовенства. Рискуя усилить нерасположение к нему Гоголя и не зная, как глубоки корни главных идей “Переписки”, Белинский пытается вернуть Гоголя на прежний путь. “Письмо к Гоголю” явилось подлинным политическим и литературным завещанием Белинского. В нем с определенной ясностью и откровенностью, с испепеляющей страстью и глубочайшим лиризмом он развивал свои взгляды на исторические судьбы русского народа и литературы, на крепостное право и религию. “Тут дело идет, - писал он, - не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас, тут дело идет об истине, о русском обществе, о России”. Белинский подчеркивает, что будущее России, судьба русского народа - в решении неотложных вопросов, связанных с борьбой против крепостного права. “Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания и т.д.”
В ответном письме Белинскому, признавая частично неудачу своей книги, со своей стороны упрекал критика в односторонности и непримиримости к чужому мнению, в игнорировании религиозно-моральной проблематики. Гоголю кажется, что ошибка его не в самом направлении книги, а в том, что он поторопился ее издать, не был готов к этой задаче и поэтому многое в ней написал поспешно, недостаточно глубоко и продуманно, и хочет разобраться в допущенных им ошибках. В авторской исповеди Гоголь говорит: «И что всего замечательней, чего не случилось, быть может, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот… Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мнениями, сужденьями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться…
В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возомнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщение человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место… Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, что в его книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца моего. Но, несмотря на “Переписку”, Гоголь остался для Белинского великим русским реалистом, который вместе с Пушкиным и Грибоедовым положил конец “ложной манере изображать русскую действительность”.
ГОГОЛЬ Николай Васильевич , русский писатель.
Литературную известность Гоголю принес сборник "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1831-1832), насыщенный украинским этнографическим материалом, романтическими настроениями, лиризмом и юмором. Повести из сборников "Миргород" и "Арабески" (оба-- 1835) открывают реалистический период творчества Гоголя. Тема униженности "маленького человека" наиболее полно воплотилась в повести "Шинель" (1842), с которой связано становление натуральной школы. Гротескное начало "петербургских повестей" ("Нос", "Портрет") получило развитие в комедии "Ревизор" (постановка 1836) как фантасмагория чиновничье-бюрократического мира. В поэме-романе "Мертвые души" (1-й том -- 1842) сатирическое осмеяние помещичьей России соединилось с пафосом духовного преображения человека. Религиозно-публицистическая книга "Выбранные места из переписки с друзьями" (1847) вызвала критическое письмо В. Г. Белинского. В 1852 Гоголь сжег рукопись второго тома "Мертвых душ". Гоголь оказал решающее влияние на утверждение гуманистических и демократических принципов в русской литературе.
Семья. Детские годы
Будущий классик русской литературы происходил из помещичьей семьи среднего достатка: у Гоголей было около 400 душ крепостных и свыше 1000 десятин земли. Предки писателя со стороны отца были потомственными священниками, однако дед писателя Афанасий Демьянович оставил духовное поприще и поступил на службу в гетманскую канцелярию; именно он прибавил к своей фамилии Яновский другую -- Гоголь, что должно было продемонстрировать происхождение рода от известного в украинской истории 17 века полковника Евстафия (Остапа) Гоголя (факт этот не находит достаточного подтверждения). Отец, Василий Афанасьевич, служил при Малороссийском почтамте. Мать, Марья Ивановна, происходившая из помещичьей семьи Косяровских, слыла первой красавицей на Полтавщине; замуж за Василия Афанасьевича она вышла четырнадцати лет. В семье, помимо Николая, было еще пятеро детей. Детские годы будущий писатель провел в родном имении Васильевке (другое название Яновщина), наведываясь вместе с родителями в окрестные места -- Диканьку, принадлежавшую министру внутренних дел В. П. Кочубею, в Обуховку, где жил писатель В. В. Капнист, но особенно часто в Кибинцы, имение бывшего министра, дальнего родственника Гоголя со стороны матери -- Д. П. Трощинского. С Кибинцами, где была обширная библиотека и домашний театр, связаны ранние художественные переживания будущего писателя. Другим источником сильных впечаилений мальчика служили исторические предания и библейские сюжеты, в частности, рассказываемое матерью пророчество о Страшном суде с напоминанием о неминуемом наказании грешников. С тех пор Гоголь, по выражению исследователя К. В. Мочульского, постоянно жил "под террором загробного воздаяния".
"Задумываться о будущем я начал рано...". Годы учения. Переезд в Петербург
Вначале Николай учился в Полтавском уездном училище (1818-1819), потом брал частные уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского, проживая у него на квартире, а в мае 1821 поступил в только что основанную Нежинскую гимназию высших наук. Учился Гоголь довольно средне, зато отличался в гимназическом театре -- как актер и декоратор. К гимназическому периоду относятся первые литературные опыты в стихах и в прозе, преимущественно "в лирическом и сурьезном роде", но также и в комическом духе, например, сатира "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан" (не сохранилась). Больше всего, однако, Гоголя занимает в это время мысль о государственной службе на поприще юстиции; такое решение возникло не без влияния профессора Н. Г. Белоусова, преподававшего естественное право и уволенного впоследствии из гимназии по обвинению в "вольнодумстве" (во время расследования Гоголь давал показания в его пользу).
По окончании гимназии Гоголь в декабре 1828 вместе с одним из своих ближайших друзей А. С. Данилевским приезжает в Петербург, где его подстерегает ряд ударов и разочарований: не удается получить желаемого места; поэма "Ганц Кюхельгартен", написанная, очевидно, еще в гимназическую пору и изданная в 1829 (под псевдонимом В. Алов) встречает убийственные отклики рецензентов (Гоголь тотчас же скупает почти весь тираж книги и предает его огню); к этому, возможно, прибавились любовные переживания, о которых он говорил в письме к матери (от 24 июля 1829). Все это заставляет Гоголя внезапно уехать из Петербурга в Германию.
По возвращении в Россию (в сентябре того же года) Гоголю наконец удается определиться на службу -- вначале в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий, а затем в Департамент уделов. Чиновничья деятельность не приносит Гоголю удовлетворения; зато новые его публикации (повесть "Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала", статьи и эссе) обращают на него все большее внимание. Писатель завязывает обширные литературные знакомства, в частности, с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым, который у себя дома в мае 1831 (очевидно, 20-го) представил Гоголя А. С. Пушкину.
"Вечера на хуторе близ Диканьки"
Осенью того же года выходит 1-я часть сборника повестей из украинской жизни "Вечера на хуторе близ Диканьки" (в следующем году появилась 2-я часть), восторженно встреченная Пушкиным: "Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!...". Вместе с тем "веселость" гоголевской книги обнаруживала различные оттенки -- от беззаботного подтрунивания до мрачного комизма, близкого к черному юмору. При всей полноте и искренности чувств гоголевских персонажей мир, в котором они живут, трагически конфликтен: происходит расторжение природных и родственных связей, в естественный порядок вещей вторгаются таинственные ирреальные силы (фантастическое опирается главным образом на народную демонологию). Уже в "Вечерах..." проявилось необыкновенное искусство Гоголя создавать цельный, законченный и живущий по собственным законам художественный космос.
После выхода первой прозаической книги Гоголь -- знаменитый писатель. Летом 1832 его с воодушевлением встречают в Москве, где он знакомится с М. П. Погодиным, С. Т. Аксаковым и его семейством, М. С. Щепкиным и другими. Следующая поездка Гоголя в Москву, столь же успешная, состоялась летом 1835. К концу этого года он оставляет поприще педагогики (с лета 1834 занимал должность адъюнкт-профессора всеобщей истории Санкт-Петербургского университета) и целиком посвящает себя литературному труду.
"Миргородский" и "петербургский" циклы. "Ревизор"
1835 год необычаен по творческой интенсивности и широте гоголевских замыслов. В этот год выходят следующие два сборника прозаических произведений -- "Арабески" и "Миргород" (оба в двух частях); начата работа над поэмой "Мертвые души", закончена в основном комедия "Ревизор", написана первая редакция комедии "Женихи" (будущей "Женитьбы"). Сообщая о новых созданиях писателя, в том числе и о предстоящей в петербургском Александринском театре премьере "Ревизора" (19 апреля 1836), Пушкин отмечал в своем "Современнике": "Г-н Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале". Кстати, и в пушкинском журнале Гоголь активно публиковался, в частности, как критик (статья "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году").
"Миргород" и "Арабески" обозначили новые художественные миры на карте гоголевской вселенной. Тематически близкий к "Вечерам..." ("малороссийская" жизнь), миргородский цикл, объединивший повести "Старосветские помещики", "Тарас Бульба", "Вий", "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", обнаруживает резкое изменение ракурса и изобразительного масштаба: вместо сильных и резких характеристик -- пошлость и безликость обывателей; вместо поэтических и глубоких чувств -- вялотекущие, почти рефлекторные движения. Обыкновенность современной жизни оттенялась колоритностью и экстравагантностью прошлого, однако тем разительнее проявлялась в нем, в этом прошлом, глубокая внутренняя конфликтность (например, в "Тарасе Бульбе" -- столкновение индивидуализирующегося любовного чувства с общинными интересами). Мир же "петербургских повестей" из "Арабесок" ("Невский проспект", "Записки сумасшедшего", "Портрет"; к ним примыкают опубликованные позже, соответственно в 1836 и 1842, "Нос" и "Шинель") -- это мир современного города с его острыми социальными и этическими коллизиями, изломами характеров, тревожной и призрачной атмосферой. Наивысшей степени гоголевское обобщение достигает в "Ревизоре", в котором "сборный город" как бы имитировал жизнедеятельность любого более крупного социального объединения, вплоть до государства, Российской империи, или даже человечества в целом. Вместо традиционного активного двигателя интриги -- плута или авантюриста -- в эпицентр коллизии поставлен непроизвольный обманщик (мнимый ревизор Хлестаков), что придало всему происходящему дополнительное, гротескное освещение, усиленное до предела заключительной "немой сценой". Освобожденная от конкретных деталей "наказания порока", передающая прежде всего сам эффект всеобщего потрясения (который подчеркивался символической длительностью момента окаменения), эта сцена открывала возможность самых разных толкований, включая и эсхатологическое -- как напоминание о неминуемом Страшном суде.
Главная книга
В июне 1836 Гоголь (снова вместе с Данилевским) уезжает за границу, где он провел в общей сложности более 12 лет, если не считать двух приездов в Россию -- в 1839-40 и в 1841-42. Писатель жил в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Чехии, но дольше всего в Италии, продолжая работу над "Мертвыми душами", сюжет которых (как и "Ревизора") был подсказан ему Пушкиным. Свойственная Гоголю обобщенность масштаба получала теперь пространственное выражение: по мере развития чичиковской аферы (покупка "ревизских душ" умерших людей) русская жизнь должна была раскрыться многообразно -- не только со стороны "низменных рядов ее", но и в более высоких, значительных проявлениях. Одновременно раскрывалась и вся глубина ключевого мотива поэмы: понятие "мертвая душа" и вытекавшая отсюда антитеза "живой" -- "мертвый" из сферы конкретного словоупотребления (умерший крестьянин, "ревизская душа") передвигались в сферу переносной и символической семантики. Возникала проблема омертвления и оживления человеческой души, и в связи с этим -- общества в целом, русского мира прежде всего, но через него и всего современного человечества. Со сложностью замысла связана жанровая специфика "Мертвых душ" (обозначение "поэма" указывало на символический смысл произведения, особую роль повествователя и позитивного авторского идеала).
Второй том "Мертвых душ". "Выбранные места из переписки с друзьями"
После выхода первого тома (1842) работа над вторым томом (начатым еще в 1840) протекала особенно напряженно и мучительно. Летом 1845 в тяжелом душевном состоянии Гоголь сжигает рукопись этого тома, объясняя позднее свое решение именно тем, что "пути и дороги" к идеалу, возрождению человеческого духа не получили достаточно правдивого и убедительного выражения. Как бы компенсируя давно обещанный второй том и предвосхищая общее движение смысла поэмы, Гоголь в "Выбранных местах из переписки с друзьями" (1847) обратился к более прямому, публицистическому разъяснению своих идей. С особенной силой была подчеркнута в этой книге необходимость внутреннего христианского воспитания и перевоспитания всех и каждого, без чего невозможны никакие общественные улучшения. Одновременно Гоголь работает и над трудами теологического характера, самый значительный из которых -- "Размышления о Божественной литургии" (опубликован посмертно в 1857).
В апреле 1848, после паломничества в Святую землю к гробу Господню, Гоголь окончательно возвращается на родину. Многие месяцы 1848 и 1850-51 он проводит в Одессе и Малороссии, осенью 1848 наведывается в Петербург, в 1850 и 1851 посещает Оптину пустынь, но большую часть времени живет в Москве.
К началу 1852 была заново создана редакция второго тома, главы из которой Гоголь читал ближайшим друзьям -- А. О. Смирновой-Россет, С. П. Шевыреву, М. П. Погодину, С. Т. Аксакову и членам его семьи и другим. Неодобрительно отнесся к произведению ржевский протоиерей отец Матвей (Константиновский), чья проповедь ригоризма и неустанного нравственного самоусовершенствования во многом определяла умонастроение Гоголя в последний период его жизни.
В ночь с 11 на 12 февраля в доме на Никитском бульваре, где Гоголь жил у графа А. П. Толстого, в состоянии глубокого душевного кризиса писатель сжигает новую редакцию второго тома. Через несколько дней, утром 21 февраля он умирает.
Похороны писателя состоялись при огромном стечении народа на кладбище Свято-Данилова монастыря (в 1931 останки Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем кладбище).
"Четырехмерная проза"
В исторической перспективе гоголевское творчество раскрывалось постепенно, обнажая с ходом времени все более глубокие свои уровни. Для непосредственных его продолжателей, представителей так называемый натуральной школы, первостепенное значение имели социальные мотивы, снятие всяческих запретов на тему и материал, бытовая конкретность, а также гуманистический пафос в обрисовке "маленького человека". На рубеже 19 и 20 столетий с особенной силой раскрылась христианская философско-нравственная проблематика гоголевских произведений, впоследствии восприятие творчества Гоголя дополнилось еще ощущением особой сложности и иррациональности его художественного мира и провидческой смелостью и нетрадиционностью его изобразительной манеры. "Проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир..." (В. Набоков). Все это обусловило огромную и все возрастающую роль Гоголя в современной мировой культуре.
В сознании большинства своих современников Гоголь представлял собой классическую фигуру писателя-сатирика - обличителя пороков человеческих и общественных, блестящего юмориста, наконец, просто писателя-комика, развлекающего и веселящего публику Сам он с горечью осознавал это и писал в «Авторской исповеди» (1847): «Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом».
Иного Гоголя - писателя-аскета, продолжателя святоотеческой традиции в русской литературе, религиозного мыслителя и публициста, автора молитв - современники так и не узнали. За исключением «Выбранных мест из переписки с друзьями», изданных со значительными цензурными изъятиями и большинством читателей неверно воспринятых, духовная проза Гоголя при жизни его оставалась неопубликованной. Правда, последующие поколения уже смогли познакомиться с ней, и к началу XX столетия писательский облик Гоголя был в какой-то степени восстановлен. Но здесь возникала другая крайность, религиозно-мистическая, «неохристианская» критика рубежа веков и более всего известная книга Д. С. Мережковского «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» выстраивали духовный путь Гоголя по своей мерке, изображая его едва ли не болезненным фанатиком, мистиком со средневековым сознанием, одиноким борцом с нечистой силой, а главное - полностью оторванным от Православной Церкви и даже противопоставленным ей, - отчего образ писателя представал в ярком, но совершенно искаженном виде.
Читатель - наш современник - в своих представлениях о Гоголе отброшен на полтора века назад: ему вновь известен только Гоголь-сатирик, автор «Ревизора», «Мертвых душ» и «тенденциозной» книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Духовная проза Гоголя для наших современников практически не существует; отчасти они находятся в еще более печальном положении, чем современники писателя: те могли судить о нем самостоятельно, а нынешнее общественное мнение о Гоголе является навязанным - многочисленными статьями, научными монографиями и преподаванием в школах и университетах. Между тем понять и оценить творчество Гоголя в целом невозможно вне духовных категорий.
Гений Гоголя до сих пор остается неизвестным в полной мере не только широкому читателю, но и литературоведению, которое в нынешнем его виде просто неспособно осмыслить судьбу писателя и его зрелую прозу. Это может сделать только глубокий знаток как творчества Гоголя, так и святоотеческой литературы - и непременно находящийся в лоне Православной Церкви, живущий церковной жизнью. Дерзнем утверждать, что такого исследователя у нас пока нет. Не беремся за эту задачу и мы: настоящая статья - лишь попытка наметить вехи духовного пути Гоголя.
В письмах Гоголя начала сороковых годов можно встретить намеки на событие, которое, как он потом скажет, «произвело значительный переворот в деле творчества» его. Летом 1840 года он пережил болезнь, но скорее не телесную, а душевную. Испытывая тяжелые приступы «нервического расстройства» и «болезненной тоски» и не надеясь на выздоровление, он даже написал духовное завещание. По словам С.Т. Аксакова, Гоголю были «видения», о которых он рассказывал ухаживавшему за ним в ту пору Н.П. Боткину (брату критика В.П. Боткина). Затем последовало «воскресение», «чудное исцеление», и Гоголь уверовал, что жизнь его «нужна и не будет бесполезна». Ему открылся новый путь. «Отсюда, - пишет С.Т. Аксаков, - начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже не совместимо с телесною оболочкою человека».
О переломе в воззрениях Гоголя свидетельствует и П.В. Анненков, который утверждает в своих воспоминаниях: «Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании». Начало «последнего периода» Гоголя Анненков относит к тому времени, когда они вместе жили в Риме: «Летом 1841 года, когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам».
Суждение Анненкова о резкости совершившегося перелома едва ли справедливо: в 1840-е годы духовная устремленность Гоголя только обозначилась яснее и приобрела конкретные жизненные формы. Сам Гоголь всегда подчеркивал цельность и неизменность своего пути и внутреннего мира. В «Авторской исповеди» он писал, отвечая на упреки критиков, утверждавших, что в «Выбранных местах…» он изменил своему назначению и вторгся в чуждые ему пределы: «Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою«<…> - и я пришел к Тому, Кто есть источник жизни». В статье «Несколько слов о биографии Гоголя» С.Т.Аксаков авторитетно свидетельствует: «Да не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях; напротив, с юношеских лет он оставался им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя яснее и суд над самим собой суровее».
У Гоголя постепенно вырабатываются аскетические устремления и все яснее вырисовывается христианский идеал. Еще в апреле 1840 года он писал Н. Д. Белозерскому: «Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни светской». А в феврале 1842 года признается Н. М. Языкову: «Мне нужно уединение, решительное уединение <…> Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Однако монашеский идеал Гоголя имеет особенный вид. Речь идет об очищении не только души, но и вместе с нею и художественного таланта. В начале 1842 года он задумал поездку в Иерусалим и получил благословение на это преосвященного Иннокентия (Борисова), известного проповедника и духовного писателя, в ту пору епископа Харьковского. С. Т. Аксаков так рассказывает об этом: «Вдруг входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко Гробу Господню». С этим образом Гоголь не расставался, а после смерти он хранился у Анны Васильевны Гоголь, сестры писателя.
Когда жена Аксакова, Ольга Семеновна, сказала, что ожидает теперь от него описания Палестины, Гоголь ответил: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойным». Продолжение литературного труда он теперь не мыслит без предварительного обновления души: «Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» (из письма к В. А. Жуковскому, июнь 1842 года).
Косвенное отражение духовной жизни Гоголя этой поры можно найти во второй редакции повести «Портрет». Художник, создавший портрет ростовщика, решает уйти от мира и становится монахом. Очистившись подвижнической жизнью отшельника, он возвращается к творчеству и пишет картину, которая поражает зрителей святостью изображенного. В конце повести монах-художник наставляет сына: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится».
Вторая редакция «Портрета», появившаяся в 1842 году, незадолго до выхода «Мертвых душ», осталась не замеченной критикой, если не считать неодобрительного отзыва Белинского. Но Шевырев, прочитавший переделанный Гоголем «Портрет», писал ему в марте 1843 года: «Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта».
Николай Васильевич Гоголь
Выбранные места из переписки с друзьями
Предисловие
Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и, приготовляясь к отдаленному путешествию к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключеньем всего, что могло иметь значенье только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу как засвидетельствованное всеми моими читателями.
Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначитальна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны – в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей.
Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем ни случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенья у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебреженье или неуваженье к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет, не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, – как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.
В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.
Завещание
Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.
I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.
II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других, – пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим.
Николай Гоголь
Выбранные места из переписки с друзьями
Предисловие
Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и приготовляясь к отдаленному путешествию к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключеньем всего, что могло иметь значенье только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.
Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны - в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей.
Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенья у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебрежете или неуваженье к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, - как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.
В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.
I. Завещание
Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.
I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.