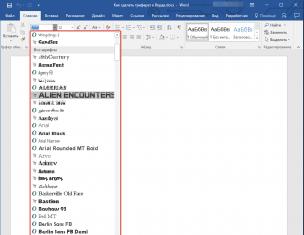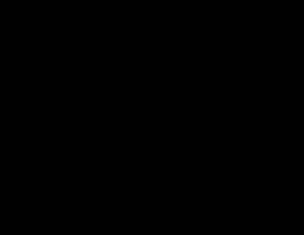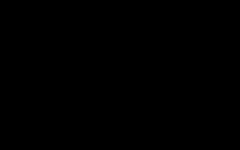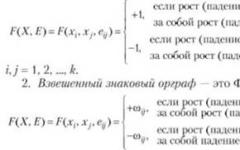«Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг... ничего!» Без совести людям стало жить легче, они «поспешили воспользоваться плодами этой свободы». Начались грабежи и разбои, люди остервенились. Совесть же валялась на дороге и «всякий швырял ее, как негодную ветошь», удивляясь, «каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие».
Один «несчастный пропоец» подобрал совесть «в надежде получить за нее шкалик». И тотчас им овладели страх и раскаяние: «из тьмы постыдного прошлого» выплыли все позорные поступки, совершенные им. Однако не один этот несчастный и жалкий человек виноват в своих грехах, существует чудовищная сила, которая «крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою» . Сознание проснулось в человеке, но «указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения». Пьяница решил избавиться от совести и направился к питейному дому, в котором торговал некий Прохорыч. Этому торговцу и подсунул несчастный совесть «в тряпице».
Прохорыч тотчас же начал каяться. Грешно спаивать народ! Он даже речи принялся произносить перед завсегдатаями кабака — о вреде водки. Некоторым кабатчик предлагал взять у него совесть, но все сторонились такого подарка. Прохорыч даже собирался вылить вино в канаву. Торговли в этот день никакой не было, копейки не нажили, зато кабатчик спал спокойно, не то что в прежние дни. Жена поняла, что с совестью торговать невозможно. На рассвете она выкрала у мужа совесть и бросилась с ней на улицу. День был базарный, народу на улицах было много. Арина Ивановна сунула докучную совесть в карман квартальному надзирателю по фамилии Ловец.
Квартальному надзирателю всегда дают взятки. На рынке он привык смотреть на чужое добро, как на свое. И вдруг — видит добро, да понимает, что оно чужое. Мужики стали над ним посмеиваться — привыкли же, что их обирают! Стали Ловца Фофаном Фофанычем звать. Так он и ушел с базара «без кульков». Жена оскорбилась, обедать не дала. Только Ловец снял с себя пальто, как сразу преобразился — «стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а все его». Решил пойти на базар, возместить ущерб. Только надел пальто (а совесть-то в кармане!), опять стыдно стало людей грабить. Пока дошел до базара, ему уже и собственный кошелек сделался в тягость. Стал деньги раздавать, все роздал. Мало того, захватил с собою по дороге «нищих видимо-невидимо», чтобы накормить их. Пришел домой, велел жене оделить «странных людей», сам пальто снял... И удивился: что з.а люди по двору бродят? Высечь их, что ли? Нищих выгнали в шею, а жена принялась по мужниным карманам шарить — не завалялось ли грошика? И обнаружила в кармане совесть! Смекалистая женщина решила, что финансист Самуил Давыдович Бржоцкий «побьется малое дело, а выдержит!». И отправила совесть почтой.
И сам Самуил Давыдович, и его дети прекрасно разбираются в способах извлечения денег из чего бы то ни было. Даже младшие сыновья соображают, «сколько последний должен первому за взятые заимообразно леденцы». Совесть в таком семействе вовсе ни к чему. Бржоцкий нашел выход. Он давно обещал некоему генералу сделать благотворительное пожертвование. К сотенной ассигнации (собственно пожертвованию) была приложена и совесть в конверте. Все это было вручено генералу.
Так и передавали совесть из рук в руки. Никому она была не нужна. И тогда совесть попросила последнего, у кого оказалась в руках: «Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем!»
«Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Пропала совесть
Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее - все, казалось, так и отдавалось им в руки, - им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести.
Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг… ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение.
А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик.
И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд…
Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что́ такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? - все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание - да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее?
Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход - выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино.
Батюшки! не могу… несносно! - криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, - это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она - настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец.
«Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!» - думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близь стоящий хожалый.
Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквилей заниматься вздумал! - говорит он ему, грозя пальцем, - у меня, брат, и в части за это посидеть недолго!
Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке.
Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомою.
«Эге! - вспомнил он, - да, никак, это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!»
Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо.
Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется, - говори, пропало! никакого дела не будет и быть не может! - рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх.
А ведь куда скверно спаивать бедный народ! - шептала проснувшаяся совесть.
Жена! Арина Ивановна! - вскрикнул он вне себя от испуга.
Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим голосом закричала: «Караул! батюшки! грабят!»
«И за что я, через этого подлеца, в одну минуту всего лишиться должен?» - думал Прохорыч, очевидно, намекая на пропойца, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота между тем так и выступали на лбу его.
Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того, чтоб с обычною любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастия для бедного человека.
Коли бы ты одну рюмочку выпил - это так! это даже пользительно! - говорил он сквозь слезы, - а то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей-то твоей награды было сто лозанов! Так вот ты и подумай, милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки платить!
Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! - говорили ему изумленные посетители.
Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится! - отвечал Прохорыч, - ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил!
Прохорыч показывал всученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъявляли согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше.
Вот так патент! - не без злобы прибавлял Прохорыч.
Что́ ж ты теперь делать будешь? - спрашивали его посетители.
Теперича я полагаю так: остается мне одно - помереть! Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; что́ же мне теперича делать, кроме как помереть?
Резон! - смеялись над ним посетители.
Я даже так теперь думаю, - продолжал Прохорыч, - всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть!
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Пропала совесть
Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее - все, казалось, так и отдавалось им в руки, - им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести.
Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг… ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение.
А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик.
И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд…
Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что́ такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? - все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание - да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее?
Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход - выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино.
Батюшки! не могу… несносно! - криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, - это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она - настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец.
«Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!» - думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близь стоящий хожалый.
Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквилей заниматься вздумал! - говорит он ему, грозя пальцем, - у меня, брат, и в части за это посидеть недолго!
Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке.
Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомою.
«Эге! - вспомнил он, - да, никак, это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!»
Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо.
Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется, - говори, пропало! никакого дела не будет и быть не может! - рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх.
А ведь куда скверно спаивать бедный народ! - шептала проснувшаяся совесть.
«Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг... ничего!» Без совести людям стало жить легче, они «поспешили воспользоваться плодами этой свободы». Начались грабежи и разбои, люди остервенились. Совесть же валялась на дороге и «всякий швырял ее, как негодную ветошь», удивляясь, «каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие».
Один «несчастный пропоец» подобрал совесть «в надежде получить за нее шкалик». И тотчас им овладели страх и раскаяние: «из тьмы постыдного прошлого» выплыли все позорные поступки, совершенные им. Однако не один этот несчастный и жалкий человек виноват в своих грехах, существует чудовищная сила, которая «крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою» . Сознание проснулось в человеке, но «указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения». Пьяница решил избавиться от совести и направился к питейному дому, в котором торговал некий Прохорыч. Этому торговцу и подсунул несчастный совесть «в тряпице».
Прохорыч тотчас же начал каяться. Грешно спаивать народ! Он даже речи принялся произносить перед завсегдатаями кабака — о вреде водки. Некоторым кабатчик предлагал взять у него совесть, но все сторонились такого подарка. Прохорыч даже собирался вылить вино в канаву. Торговли в этот день никакой не было, копейки не нажили, зато кабатчик спал спокойно, не то что в прежние дни. Жена поняла, что с совестью торговать невозможно. На рассвете она выкрала у мужа совесть и бросилась с ней на улицу. День был базарный, народу на улицах было много. Арина Ивановна сунула докучную совесть в карман квартальному надзирателю по фамилии Ловец.
Квартальному надзирателю всегда дают взятки. На рынке он привык смотреть на чужое добро, как на свое. И вдруг — видит добро, да понимает, что оно чужое. Мужики стали над ним посмеиваться — привыкли же, что их обирают! Стали Ловца Фофаном Фофанычем звать. Так он и ушел с базара «без кульков». Жена оскорбилась, обедать не дала. Только Ловец снял с себя пальто, как сразу преобразился — «стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а все его». Решил пойти на базар, возместить ущерб. Только надел пальто (а совесть-то в кармане!), опять стыдно стало людей грабить. Пока дошел до базара, ему уже и собственный кошелек сделался в тягость. Стал деньги раздавать, все роздал. Мало того, захватил с собою по дороге «нищих видимо-невидимо», чтобы накормить их. Пришел домой, велел жене оделить «странных людей», сам пальто снял... И удивился: что з.а люди по двору бродят? Высечь их, что ли? Нищих выгнали в шею, а жена принялась по мужниным карманам шарить — не завалялось ли грошика? И обнаружила в кармане совесть! Смекалистая женщина решила, что финансист Самуил Давыдович Бржоцкий «побьется малое дело, а выдержит!». И отправила совесть почтой.
И сам Самуил Давыдович, и его дети прекрасно разбираются в способах извлечения денег из чего бы то ни было. Даже младшие сыновья соображают, «сколько последний должен первому за взятые заимообразно леденцы». Совесть в таком семействе вовсе ни к чему. Бржоцкий нашел выход. Он давно обещал некоему генералу сделать благотворительное пожертвование. К сотенной ассигнации (собственно пожертвованию) была приложена и совесть в конверте. Все это было вручено генералу.
Так и передавали совесть из рук в руки. Никому она была не нужна. И тогда совесть попросила последнего, у кого оказалась в руках: «Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем!»
«Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».
Михаил Салтыков-Щедрин - ПРОПАЛА СОВЕСТЬ Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее - все, казалось, так и отдавалось им в руки, - им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг... ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение. А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд... Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? - все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание - да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее? Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход - выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино. - Батюшки! не могу... несносно! - криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, - это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она - настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец. "Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!" - думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близь стоящий хожалый. - Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквилей заниматься вздумал! - говорит он ему, грозя пальцем, - у меня, брат, и в части за это посидеть недолго! Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею... ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ: http://ilibrary.ru/text/1259/p.1/index.html КОНЦОВКА: И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук. Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться. - За что вы меня тираните! - жаловалась бедная совесть, - за что вы мной, словно отымалкой какой, помыкаете? - Что́ же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? - спросил, в свою очередь, мещанинишка. - А вот что, - отвечала совесть, - отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет - не погнушается. По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть. Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама.