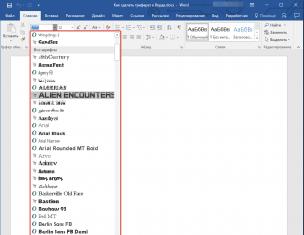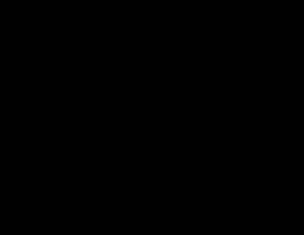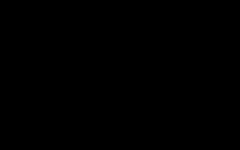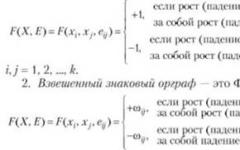Не каждый человек, обладающий физическим здоровьем и материальным благосостоянием, чувствует себя счастливым. Но как в таком случае добиться тому, кто этого не имеет? -Этот философский вопрос поднял в своем произведении «Парадокс», краткое содержание которого заключается всего в одном афоризме, высказанном героем этого рассказа, - произведение, способное заставить задуматься тех, кто не испытывает счастья в своей жизни.
История написания
Это произведение В. Короленко написал в течение одного дня. И, исходя из биографических сведений, можно сделать вывод, что день этот был не самым лучшим в жизни писателя. Незадолго до этого умерла его дочь. Короленко признавался своей сестре в одном из писем, что состояние его было --«изломанным и ничтожным».
Жизнь, по мнению писателя, являлась проявлением закона, главные категории которого - добро и зло. Счастье человечеству дано весьма неравномерно. Философской теме, над которой люди ломают голову много столетий, посвятил Короленко «Парадокс».
Главный герой рассказа - десятилетний мальчик из зажиточной семьи. Он вместе с братом частенько отдыхает в огромном прекрасном саду, предаваясь праздному времяпрепровождению, как и полагается, по словам автора, детям состоятельных родителей. Но однажды происходит случай, после которого их душевное равновесие нарушается. На сложный вопрос дает чрезвычайно простой ответ Короленко.
«Парадокс», краткое содержание которого можно сформулировать всего одной фразой: «Человек создан для счастья, как птица для полета», - это глубоко философское произведение.
Как-то раз к дому, в котором жили мальчики, подъехала довольно странная пара. Один был высок и долговяз. Другой обладал обликом, который у каждого из братьев остался в памяти на всю жизнь. У него была огромная голова, немощное тело и… отсутствовали руки. Цель прибытия этих господ была проста - попрошайничество. Именно этим они зарабатывали себе на пропитание. Но делали они это, следует сказать, весьма искусно.

Противоречивой природе счастья посвящен рассказ, созданный Короленко. «Парадокс», краткое содержание которого изложено в статье, повествует о встрече с человеком, для которого счастье, казалось бы, является состоянием недостижимым. Но именно он, а звали его Ян Криштоф Залуский, поведал мудрый афоризм, смысл которого заключался в том, что главное предназначение человека - быть счастливым.
Феномен
Залуский и его сопровождающий зарабатывали деньги довольно артистичными представлениями. Сначала был представлен публике. Помощник называл его «феноменом». Далее следовала краткая история его жизни. И наконец на сцену выходил сам Залуский.
Человек без рук выделывал всяческие трюки: вдевал ногами нитку в иголку, принимал пищу и снимал куртку тем же способом. Но самой удивительной была его способность писать. Причем почерк его был совершенным, каллиграфическим. И именно в этой части повествования ввел философскую идею Короленко. Парадокс Залуского заключался в том, что он с помощью своего специфического метода написал мудрый афоризм о человеческом счастье.
Странное представление
Безрукий маленький человек имел острый язык и чувство юмора. К тому же был не лишен определенного цинизма. Он всячески подшучивал над своей физической неполноценностью, но при этом не забывал напомнить, что достаточно умен, а потому требует денежного вознаграждения. Гвоздем его программы стал философский афоризм, который он попросил прочитать смущенного мальчика.

Образ необычного «счастливца» создал в этом произведении Короленко. Парадокс этого персонажа был в том, что, не обладая тем, что необходимо для нормального существования, он проповедовал философию счастья. И делал это довольно правдиво и убедительно.
Парадоксальный счастливец
Когда же мудрая фраза была зачитана мальчиком, один из зрителей этого необычного выступления выразил сомнение относительно того, что она является афоризмом. Залуский не стал спорить. С присущей ему злой иронией он сказал, что этот афоризм из уст феномена является не чем иным, как парадоксом. Это слово стало ключевым в произведении Короленко.
Парадокс - это когда богатый и здоровый человек считает себя несчастным. Парадокс - это также калека, рассуждающий о счастье.
Но у афоризма Залуского есть продолжение. Противоречивой философской идеей наделил свой рассказ В. Г. Короленко. Парадокс заключается еще и в том, что правдивость своего лозунга о счастье Залуский сам же и опроверг.

Но счастье не дано человеку…
Единственным взрослым человеком, который проникся к калеке состраданием, была мать мальчиков. После выступления она пригласила Залуского и его друга в дом поужинать. А после братья видели, как они удалялись, переговариваясь друг с другом. И их разговор так сильно заинтересовал детей, что они решили проследить за необычными артистами.
Напоминает рассказ, написанный Владимиром Короленко. «Парадокс», главные герои которого встретились в первый и последний раз, представляет собой историю о мудром страннике. Своим внезапным посещением он преподал детям важный урок в жизни.

Счастье - понятие относительное. Человек рожден для него, как птица для полета. Но позже в разговоре Залуского со своим сопровождающим мальчики услышали продолжение высказанной им фразы: «Но счастье, увы, дано не всем». И без этого дополнения к афоризму Залуского был бы не оконченным сюжет Короленко. Парадокс человеческой души заключается в том, что она тянется к гармонии и равновесию, но абсолютное счастье ей неведомо.
Короленко Владимир Галактионович
Парадокс
В.Г.КОРОЛЕНКО
ПАРАДОКС
Подготовка текста и примечания: С.Л.КОРОЛЕНКО и Н.В.КОРОЛЕНКО-ЛЯХОВИЧ
Для чего собственно создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.
Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого тополя и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни, в то время, мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было - сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас "настоящая", живая рыба.
Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.
Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптанный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность,- нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами... На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высовывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.
Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов,- и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат, по большей части, предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом!. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели... Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла,- и тогда брат говорил с досадой:
Что ты это, ей-богу!.. Ведь это гостиница... Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен,- выражаясь по-нынешнему,- какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, которых мы, с неопределенным замиранием души, спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем...
И все это вмещалось в тихом уголке, между садом н сараями, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего... Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцвечивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шопот листьев, сонное чирикание какой-то птицы в кустах и... странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте,- потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии... Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю,- мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.
Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше... Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей...
В то время как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем как хвостики извивались под ними, точно крошечные змейки. Это был целый особый мирок, под этою зеленою тенью, и, если сказать правду, в нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдет ко дну и что после этого который-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не придти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьей, под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки...
Вдобавок мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни...
Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавков, с глазами, прикованными к зеленой глубине бадьи,- из действительного мира, то есть со стороны нашего дома, проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:
Панычи, панычи, э-эй! Идить бо до покою!
"Идти до покою",- значило идти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто "до покою", а не к обеду, который в этот день действительно должен был происходить ранее
I
Для чего собственно создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.
Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого тополя и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни, в то время, мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было – сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас «настоящая», живая рыба.
Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.
Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптанный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность, – нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами… На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высовывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.
Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов, – и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат, по большей части, предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом!.. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели… Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла, – и тогда брат говорил с досадой:
– Что ты это, ей-богу!.. Ведь это гостиница… Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен, – выражаясь по-нынешнему, – какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, которых мы, с неопределенным замиранием души, спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем…
И все это вмещалось в тихом уголке, между садом и сараями, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего… Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцвечивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шопот листьев, сонное чирикание какой-то птицы в кустах и… странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте, – потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии… Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю, – мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.
Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше… Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей…
В. Г. Короленко
Парадокс
Ян Криштоф Залуский - главный герой. Калека, у которого от рождения нет рук; у него большая голова, бледное лицо «с подвижными острыми чертами и большими, проницательными бегающими глазами». «Туловище было совсем маленькое, плечи узкие, груди и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью бороды». Ноги «длинные и тонкие», с их помощью «феномен», как его называет сопровождающий, «долгоусый» субъект, снимает с головы картуз, расчесывает гребенкой бороду, крестится и, наконец, пишет на белом листке «ровную красивую строчку»: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Эта фраза действительно стала, как её и называет Залуский, афоризмом, причем особенно расхожим в советское время. Но это, подчеркивал Залуский, не только афоризм, но и «парадокс». «Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него», - говорит он позднее. Короленко, не раз показывавший болезни и человеческие увечья (вплоть до повести «Без языка», где положение человека в чужой стране придает понятию немоты философское звучание), подчеркивает парадокс Залуского не только для более острого изображения взаимоотношений между людьми (растерянное высокомерие доктора Дударова и достоинство Залуского) и не из педагогических целей, но ради утверждения центральной идеи всего своего творчества: «Жизнь… кажется мне проявлением общего великого закона, главные основные черты которого - добро и счастье. Общий закон жизни есть стремление к счастию и все более широкое его осуществление». Именно врожденное несчастье Залуского помогло ему выразить эту свою заветную мысль с особой убедительностью.
Сейчас смотрят:
Лесной доктор Это же дятел, лесной доктор, ритмично выстукивает звуки, которые проносятся по всему лесу! Маленькая птичка с нарядным ярко-красным хохолком, головка и спинка черные. На черных крыльях белые полоски и пятнышки. «Прилетели уланы, серые жупаны, красные шапочки: рубят пень на шепочки».
Недаром Буало, высоко ценивший творчество Мольера, обвинял своего друга в том, что он «слишком народен». Народность комедий Мольера, которая проявлялась и в их содержании, и в их форме, основывалась, прежде всего, на народных традициях фарса. Мольер следовал этим традициям в своем литературном и актерском творчестве, всю жизнь сохраняя пристрастие к демократическому театру. О народности творчества Мольера свидетельствуют и его народные персонажи. Это, прежде всего, слуги: Маскариль, Сганарель, С
Зелений сад і смерекова хата… Слова, які вливаються в душу кожної людини, що носить в собі горде звання українця! Ми – це народ, якого розривали війни, над яким глузував світ, ми ті, чию мову загортали в пісок, а рідну пісню спалювали як солому. Та ми не перестали бути громадянами своєї гідності та своєї країни – України! Вона по сьогодні привертає увагу кожного, хто б міг її побачити.Від сходу до заходу, з півдня на північ вона безмежна і жива, простора і дорогоцінна. Ці ліси, яким по кілька т
Николай Васильевич Гоголь, всем сердцем любя Россию, не мог оставаться в стороне, видя, что она погрязла в болоте коррумпированного чиновничества, и поэтому создает два произведения, отображающих всю действительность состояния страны. Одним из этих произведений является комедия "Ревизор", в которой Гоголь задумал посмеяться над тем, что "действительно достойно осмеяния всеобщего". Гоголь признавался, что в "Ревизоре" он. решил "собрать в одну кучу все дурное в России, все несправедливости". В 18
Галицько-волинський літопис – нетлінна пам’ятка давньої української літератури. У ньому висвітлюються події XIII століття, коли правив князь Данило Галицький, а саме – 92 роки з галицько-волинського життя.Схоже, що автор симпатизує Данилу, оскільки на це вказує зміст твору. У першій частині виражається неприховане захоплення діями князя. Почавши оповідь ще з дитинства Романовича, автор ніби пише на замовлення його особистий літопис. Він натхненно описує досягнення Данила у військовій справі, під
В центре рассказа И. А. Бунина «Цифры» - непростые отношения между взрослыми и детьми. Это” произведение призывает не омрачать бессердечием радостный мир детства. Взрослые, не желая выходить на улицу за карандашами и бумагой, обманули маленького мальчика и сказали ему, что все магазины закрыты: «Уж очень не хотелось мне идти в город», «Придет полицейский и арестует», «Вредно, не полагается баловать детей». Позже они поняли, что поступили неправильно, но признавать свою ошибку (ведь они - взросл
Мотив узничества - один из ведущих мотивов романтизма - неоднократно обыгрывался в русской литературе. Чаще всего заключение воспринималось как условный символ, хотя иногда носило элементы автобиографического характера. Так, стихотворение М. Ю. Лермонтова «Узник» было написано поэтом во время его ареста, последовавшего после поэтического отзыва на смерть Пушкина. Заключенный под стражу, оторванный от родных и друзей, поэт не прекращал писать стихи. Доступ к нему имел только камердинер, приносивш
Когда я вырасту, то хочу стать успешным человеком. Знаю: путь к успеху начинается с детства. Прежде всего нужно быть здоровой, опрятной и организованной. Важно правильно определять цель и идти к ней. Надо уметь планировать свое время и выполнять свое дневное расписание. Важной ступенью к успеху является уважение к возрасту и опыту старших поколений. Надо научиться внимательно слушать учителей и родителей, а также старательно выполнять задания и правильно их систематизировать.Постоянная работа на
Короленко Владимир Галактионович
Парадокс
В.Г.КОРОЛЕНКО
ПАРАДОКС
Подготовка текста и примечания: С.Л.КОРОЛЕНКО и Н.В.КОРОЛЕНКО-ЛЯХОВИЧ
Для чего собственно создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.
Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого тополя и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни, в то время, мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было - сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас "настоящая", живая рыба.
Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.
Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптанный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность,- нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами... На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высовывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.
Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов,- и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат, по большей части, предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом!. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели... Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла,- и тогда брат говорил с досадой:
Что ты это, ей-богу!.. Ведь это гостиница... Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен,- выражаясь по-нынешнему,- какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, которых мы, с неопределенным замиранием души, спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем...
И все это вмещалось в тихом уголке, между садом н сараями, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего... Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцвечивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шопот листьев, сонное чирикание какой-то птицы в кустах и... странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте,- потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии... Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю,- мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.
Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше... Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей...
В то время как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем как хвостики извивались под ними, точно крошечные змейки. Это был целый особый мирок, под этою зеленою тенью, и, если сказать правду, в нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдет ко дну и что после этого который-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не придти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьей, под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки...
Вдобавок мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни...