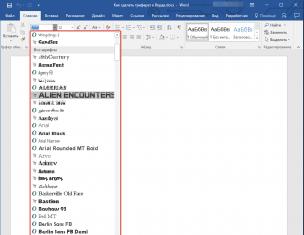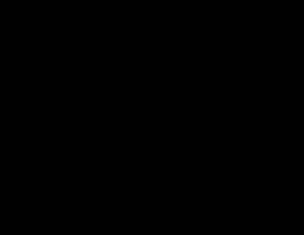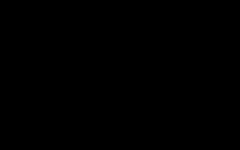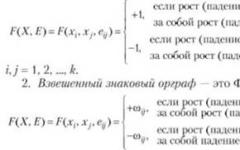ПИКОВАЯ ДАМА
(Повесть, 1833; опубл. 1834)
Германн — молодой офицер («инженер»), центральный персонаж социально-философской повести, каждый из героев которой связан с определенной темой (Томский — с темой незаслуженного счастья; Лизавета Ивановна — с темой социального смирения; старая графиня — с темой судьбы) и наделен одной определяющей его и неизменной чертой. Г. — прежде всего расчетлив, разумен; это подчеркнуто и его немецким происхождением, и фамилией (имени его читатель не знает), и даже военной специальностью инженера.
Г. впервые появляется на страницах повести в эпизоде у конногвардейца Нарумова, — но, просиживая до 5 утра в обществе игроков, он никогда не играет — «Я не в состоянии жертвовать необходимым, в надежде приобрести излишнее». Честолюбие, сильные страсти, огненное воображение подавлены в нем твердостью воли. Выслушав историю Томского о трех картах, тайну которых 60 лет назад открыл его бабушке графине Анне Федотовне легендарный духовидец Сен-Жермен, он восклицает: не «Случай», а «Сказка!» — поскольку исключает возможность иррационального успеха.
Далее читатель видит Г. стоящим перед окнами бедной воспитанницы старой графини, Лизы; облик его романичен: бобро-вый воротник закрывает лицо, черные глаза сверкают, быстрый румянец вспыхивает на бледных щеках. Однако Г. — не галантный персонаж старого французского романа, что читает графиня, не роковой герой романа готического (которые графиня порицает), не действующее лицо скучно-мирного русского романа (принесенного ей Томским), даже не «литературный родственник» Эраста из повести Карамзина «Бедная Лиза». (На связь с этой повестью указывает не только имя бедной воспитанницы, но и «чужеземная» огласовка фамилии ее «соблазнителя».) Г. — скорее герой немецкого мещанского романа, откуда слово и слово заимствует свое первое письмо Лизе; это герой романа по расчету. Лиза нужна ему только как послушное орудие для осуществления хорошо обдуманного замысла — овладеть тайной трех карт.
Тут нет противоречия со сценой у Нарумова; человек буржуазной эпохи, Г. не переменился, не признал всевластие судьбы и торжество случая (на чем строится любая азартная игра — особенно фараон, в который 60 лет назад играла графиня). Просто, выслушав продолжение истории (о покойнике Чаплицком, которому Анна Федотовна открыла-таки секрет), Г. убедился в действенности тайны. Это логично; однократный успех может быть случайным; повторение случайности указывает на возможность превращения ее в закономерность; а закономерность можно «обсчитать», рационализировать, использовать. До сих пор тремя его козырями были — расчет, умеренность и аккуратность; отныне тайна и авантюризм парадоксальным образом соединились со все тем же расчетом, со все той же буржуазной жаждой денег.
И тут Г. страшным образом просчитывается. Бдва он вознамерился овладеть законом случайного, подчинить тайну своим целям, как тайна сама тут же овладела им. Эта зависимость, «подневольность» поступков и мыслей героя (которую сам он почти не замечает) начинает проявляться сразу — и во всем.
По возвращении от Нарумова ему снится сон об игре, в котором золото и ассигнации как бы демонизируются; затем, уже наяву, неведомая сила подводит его к дому старой графини. Жизнь и сознание Г. мгновенно и полностью подчиняются загадочной игре чисел, смысла которой читатель до поры до времени не понимает. Обдумывая, как завладеть тайной, Г. готов сделаться любовником восьмидесятилетней графини — ибо она умрет через неделю (т. е. через 7 дней) или через 2 дня (т. е. на 3-й) ; выигрыш может утроить, усемерить его капитал; через 2 дня (т. е. опять же на 3-й) он впервые является под окнами Лизы; через 7 дней она впервые ему улыбается — и так далее. Даже фамилия Г. — и та звучит теперь как странный, немецкий отголосок французского имени Сен-Жермен, от которого графиня получила тайну трех карт.
Но, едва намекнув на таинственные обстоятельства, рабом которых становится его герой, автор снова фокусирует внимание читателя на разумности, расчетливости, планомерности Г.; он продумывает все — вплоть до реакции Лизаветы Ивановны на его любовные письма. Добившись от нее согласия на свидание (а значит — получив подробный план дома и совет, как в него проникнуть), Г. пробирается в кабинет графини, дожидается ее возвращения с бала — и, напугав до полусмерти, пытается выведать желанный секрет. Доводы, которые он приводит в свою пользу, предельно разнообразны; от предложения «составить счастье моей жизни» до рассуждений о пользе бережливости; от готовности взять грех графини на свою душу, даже если он связан «с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором» до обещания почитать Анну Федотовну «как святыню» причем из рода в род. (Это парафраз литургического молитвословия «Воцарится Господь вовек, Бог твой, Сионе, в род и род».) Г. согласен на все, ибо ни во что не верит: ни в «пагубу вечного блаженства», ни в святыню; это только заклинательные формулы, «сакрально-юридические» условия возможного договора. Даже «нечто, похожее на угрызение совести», что отозвалось было в его сердце, когда он услышал шаги обманутой им Лизы, больше не способно в нем пробудиться; он окаменел, уподобился мертвой статуе.
Поняв, что графиня мертва, Г. пробирается в комнату Лизаветы Ивановны — не для того, чтобы покаяться перед ней, но для того, чтобы поставить все точки над «и»; развязать узел любовного сюжета, в котором более нет нужды, «...все это было не любовь! Деньги, — вот чего алкала его душа!» Суровая душа, — уточняет Пушкин. Почему же тогда дважды на протяжении одной главы (IV) автор наводит читателя на сравнение холодного Г. с Наполеоном, который для людей первой половины XIX в. воплощал представление о романтическом бесстрашии в игре с судьбой? Сначала Лиза вспоминает о разговоре с Томским (у Г. «лицо истинно романтическое» — «профиль Наполеона, а душа Мефистофеля»), затем следует описание Г., сидящего на окне сложа руки и удивительно напоминающего портрет Наполеона...
Прежде всего Пушкин (как впоследствии и Гоголь) изображает новый, буржуазный, измельчавший мир. Хотя все страсти, символом которых в повести оказываются карты, остались прежними, но зло утратило свой «героический» облик, изменило масштаб. Наполеон жаждал славы — и смело шел на борьбу со всей Вселенной; современный «Наполеон», Г. жаждет денег — и хочет бухгалтерски обсчитать судьбу. «Прежний» Мефистофель бросал к ногам Фауста целый мир; «нынешний» Me-фисто способен только насмерть запугать старуху графиню незаряженным пистолетом (а современный Фауст из пушкинской ♦ Сцены из Фауста», 1826, с которой ассоциативно связана «Пиковая дама», смертельно скучает). Отсюда рукой подать до «наполеонизма» Родиона Раскольникова, объединенного с образом Г. узами литературного родства («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского); Раскольников ради идеи пожертвует старухой-процентщицей (такое же олицетворение судьбы, как старая графиня) и ее невинной сестрой Лизаветой Ивановной (имя бедной воспитанницы). Однако верно и обратное: зло измельчало, но осталось все тем же злом; «наполеоновская» поза Г., поза властелина судьбы, потерпевшего поражение, но не смирившегося с ним — скрещенные руки, — указывает на горделивое презрение к миру, что подчеркнуто «параллелью» с Лизой, сидящей напротив и смиренно сложившей руки крестом.
Впрочем, голос совести еще раз заговорит в Г. — спустя три дня после роковой ночи, во время отпевания невольно убитой мм старухи. Он решит попросить у нее прощения — но даже тут будет действовать из соображений моральной выгоды, а не из собственно моральных соображений. Усопшая может иметь вредное влияние на его жизнь — и лучше мысленно покаяться перед ней, чтобы избавиться от этого влияния.
И тут автор, который последовательно меняет литературную прописку своего героя (в первой главе он — потенциальный персонаж авантюрного романа; во второй — герой фантастической повести в духе Э.-Т.-А. Гофмана; в третьей ~ действующее лицо повести социально-бытовой, сюжет которой постепенно возвращается к своим авантюрным истокам), вновь резко «переключает» тональность повествования. Риторические клише из поминальной проповеди молодого архиерея («ангел смерти обрел ее <...> бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного») сами собой накладываются на события страшной ночи. В Г., этом «ангеле смерти» и «полунощном женихе» вдруг проступают пародийные черты; его образ продолжает мельчать, снижаться; он словно тает на глазах у читателя. И даже «месть» мертвой старухи, повергающая героя в обморок, способна вызвать улыбку у читателя: она «насмешливо взглянула на него, прищурившись одним глазом».
Исторический анекдот о трех картах, подробное бытоописа-ние, фантастика — все спутывается, покрывается флером иронии и двусмысленности, так что ни герой, ни читатель уже не в силах разобрать: действительно ли мертвая старуха, шаркая тапочками, вся в белом, является Г. той же ночью? Или это следствие нервного пароксизма и выпитого вина? Что такое три карты, названные ею, — «тройка, семерка, туз» — потусторонняя тайна чисел, которым Г. подчинен с того момента, как решил завладеть секретом карт, или простая прогрессия, которую Г. давным-давно сам для себя вывел («я утрою, усемерю капитал..,»; то есть — стану тузом)? И чем объясняется обещание мертвой графини простить своего невольного убийцу, если тот женится на бедной воспитаннице, до которой при жизни ей не было никакого дела? Тем ли, что старуху заставила «подобреть» неведомая сила, пославшая ее к Г., или тем, что в его заболевающем сознании звучат все те же отголоски совести, что некогда просыпались в нем при звуке Лизиных шагов? На эти вопросы нет и не может быть ответа; сам того не замечая, Г. попал в «промежуточное» пространство, где законы разума уже не действуют, а власть иррационального начала еще не всесильна; он — на пути к сумасшествию.
Идея трех карт окончательно овладевает им; стройную девушку он сравнивает с тройкой червонной; на вопрос о времени отвечает «без 5 минут семерка». Пузатый мужчина кажется ему тузом, а туз является во сне пауком, — этот образ сомнительной вечности в виде паука, ткущего свою паутину, также будет подхвачен Достоевским в «Преступлении и наказании» (Свидригай-лов). Г., так ценивший именно независимость, хотя бы и материальную, ради нее и вступивший в игру с судьбою, полностью теряет самостоятельность. Он готов полностью повторить «парижский» эпизод жизни старой графини и отправиться играть в Париж. Но тут из «нерациональной» Москвы является знаменитый игрок Чекалинский и заводит в «регулярной» столице настоящую «нерегулярную» игру. Тот самый случай, исключить который из своей закономерной, спланированной жизни Г. намеревался, избавляет его от «хлопот» и решает его участь.
В сценах «поединка» с Чекалинским (чья фамилия ассонансно рифмуется с фамилией Чаплицкого) перед читателем предстает прежний Г. — холодный и тем более расчетливый, чем менее предсказуема игра в фараон. (Игрок ставит карту, понтер, который держит банк, мечет колоду направо и налево; карта может совпасть с той, какую в начале игры выбрал игрок, и не совпасть; предугадать выигрыш или проигрыш заведомо невозможно; любые маневры игрока, не зависящие от его ума и воли, исключены.) Г. словно не замечает, что в образе Чекалинского, на полном свежем лице которого играет вечная ледяная улыбка, ему противостоит сама судьба; Г. спокоен, ибо уверен, что овладел законом случая. И он, как ни странно, прав: старуха не обманула; все три карты вечер за вечером выигрывают. Просто сам Г. случайно обдернулся, т. е. вместо туза поставил пиковую даму. Закономерность тайны полностью подтверждена, но точно так же подтверждено и всевластие случая. Утроенный, усемеренный капитал Г. (94 тысячи) переходит к «тузу» — Чекалин-скому; Г. достается пиковая дама, которая, конечно, тут же повторяет «жест» мертвой старухи.— она «прищурилась и усмехнулась».
«Пиковая дама» создавалась, очевидно, второй Болдинской осенью, параллельно со «Сказкой о рыбаке и рыбке» и «петербургской повестью» «Медный всадник». Естественно, что образ Г. соприкасается с их центральными персонажами. Подобно старой графине, он хочет поставить судьбу себе на службу — и тоже в конце концов терпит сокрушительное поражение. Подобно бедному Евгению, он восстает против «закономерного» порядка социальной жизни — и тоже сходит с ума. (То есть лишается Разума — того «орудия», с помощью которого собирался овладеть Законом Судьбы.) Из Заключения к повести читатель узнает, что несостоявшийся покоритель потустороннего мира, буржуазный Наполеон, обмельчавший Мефистофель, сидит в 17-м нумере (туз + семерка) Обуховской больницы и очень быстро бормочет: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!»
С Германном читатель знакомится в первой главе , в которой рассказывается о карточной игре молодых людей. Друзья обращают внимание на то, что Германн никогда не играет, хотя в компании игроков проводит много времени, часами наблюдая за игрой. Сам он признается: «Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать необходимым, в надежде приобрести излишнее».
Можно предположить, что наблюдая за манипуляциями игроков, Германн пытается разгадать алгоритм игры. Он смотрит на игру не как на удовольствие и развлечение, а как на возможность повысить свой доход. Он хочет действовать наверняка.
И тут, словно дьявол решил вмешаться в развитие событий. Томский, один из игроков, рассказывает о своей бабушке. Много лет назад некий французский чародей и предсказатель граф Сен-Жермен открыл молодой русской графине три карты, которые помогут ей вернуть проигранные деньги.
Германн был натурой страстной и увлекающейся. Но бережливость и экономность оказались сильнее его страстей, сжигавших изнутри. Он загорелся идеей узнать три заветные карты старой графини. Эта идея целиком захватила молодого человека. У него был небольшой капитал, оставленный отцом, но он не прикасался к этим деньгам, жил скромно на свое жалование. И друзья, предпочитавшие жить в свое удовольствие, нередко посмеивались над рациональностью обрусевшего немца.
Однажды, проходя по петербургской улице, наш герой обратил внимание на старинный дом. От будочника он узнал, что в доме живет та самая графиня, бабушка Томского. В этот вечер он долго бродил вокруг дома, представляя себе, как будет расспрашивать графиню и узнает у нее три заветные карты. В одном из окон он увидел юную девушку. И тогда в его голове созрел план, не очень красивый и не достойный порядочного человека.
Германн решил обольстить девушку, чтобы она впустила его в дом. Он еще смутно представлял себе, что и как произойдет, но он часами торчал возле окон воспитанницы графини, Лизы, стараясь привлечь ее внимание. И наконец, решился на записку. Он проявлял настойчивость и упорство. Он писал Лизе послания одно за другим, пока, наконец, Лиза не согласилась впустить его к себе в комнату.
Но Германна интересовала не Лиза. Вечером он дождался возвращения графини и зашел в ее комнату. Им владела одержимость. Сначала он пытался уговорить графиню, на что старая женщина пыталась объяснить, что не было никаких карт, ни какого Сен-Жермена. Это всего лишь красивая легенда. Но молодой человек уже не был готов отступать, он начал угрожать пистолетом. Слабое сердце старой женщины не выдержало, и она умерла. Образ Германна, созданный Пушкиным в «Пиковой даме» весьма необычен. И интересна характеристика, данная ему Томским на бале, куда Лиза вместе с графиней ездила в этот вечер: «Этот Германн — лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, три злодейства». Этой фразой Томский сам того не подозревая оказался провидцем. В эту ночь Германн совершил три своих злодейства. Он вскружил голову молодой барышне, проник в чужой дом и явился причиной смерти графини.
Если рассматривать произведение, как реалистичное, можно предположить, что помутнение рассудка у Германна началось в тот вечер, когда умерла графиня. Страх, который он испытал при виде мертвой графини, стал пусковым крючком для развития болезни. Он не получил желаемого, и это настолько сильно подействовало на него, что привело к помутнению разума. Явление мертвой графини можно объяснить как галлюцинацию воспаленного мозга.
После того, как он во время игры понтировал даму пик вместо туза, он был настолько подавлен и растерян, что не мог владеть собой. Болезнь начала прогрессировать с неумолимой скоростью. Как реально имевшее место событие, это произведение может быть интересно психиатрам.
Но есть еще один аспект. Это произведение может рассматриваться как мистико-романическое. И в таком виде оно выглядит привлекательнее и загадочнее. Германн попытался вторгнуться в потусторонний мир, и был жестоко наказан за это потерей рассудка.
Молодой военный инженер немец Германн ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой.
...Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью...
Его приятель Томский рассказывает историю о том, как его бабушка-графиня, будучи в Париже, проиграла крупную сумму в карты. Она попыталась взять взаймы у графа Сен-Жермена, но вместо денег тот раскрыл ей секрет трёх выигрышных карт. Графиня, благодаря секрету, полностью отыгралась.
Эта идея завладела бедным немцем.
Германн, соблазнив её воспитанницу, Лизу, проникает в спальню к графине, мольбами и угрозами пытаясь выведать заветную тайну. Увидев Германна, вооружённого пистолетом (который, как выяснилось впоследствии, оказался незаряженным), графиня умирает от сердечного приступа.
На похоронах Германну мерещится, что покойная графиня открывает глаза и бросает на него взгляд. Вечером её призрак является Германну и говорит, что три карты («тройка, семёрка, туз») принесут ему выигрыш, но он не должен ставить больше одной карты в сутки. Второе условие — он должен жениться на Лизе.
Последнее условие Германн впоследствии не выполнил. Три карты становятся для Германна навязчивой идеей:
…Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: который час, он отвечал: — без пяти минут семёрка. — Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семёрка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила…
В Петербург приезжает знаменитый картёжник миллионер Чекалинский. Германн ставит весь свой капитал (47 тысяч рублей) на тройку, выигрывает и удваивает его. На следующий день он ставит все свои деньги (94 тысячи рублей) на семёрку, выигрывает и опять удваивает капитал. На третий день Германн ставит деньги (188 тысяч рублей) на туза. Выпадает туз. Германн думает, что победил, но Чекалинский говорит, что дама Германна проиграла. Каким-то невероятным образом Германн «обдёрнулся» — поставил деньги вместо туза на даму.
Германн видит на карте усмехающуюся и подмигивающую пиковую даму, которая напоминает ему графиню. Разорившийся Германн попадает в лечебницу для душевнобольных, где ни на что не реагирует и поминутно «бормочет необыкновенно скоро: — Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!..».
Так Германн - человек, который, будучи «не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» , поддался разрушительной страсти и в погоне за богатством потерял свой разум.
Итак, действие перенесено в век Екатерины II. Главный герой совсем не похож на своего прототипа. Это восторженный романтик, наделенный возвышенной душой. Он боготворит Лизу, свою "красавицу, богиню", не смея целовать след ее ноги. Все его ариозо первого действия - страстные признания в любви. Желание разбогатеть - не цель, а средство преодолеть разделяющую их с Лизой социальную пропасть (ведь Лиза в опере - не приживалка, а богатая внучка Графини). "Три карты знать - и я богат", - восклицает он, - "и вместе с ней могу бежать прочь от людей". Эта идея все более овладевает им, вытесняя любовь к Лизе. Трагизм душевной борьбы Германа усугубляется его столкновением с грозной силой рока. Воплощением этой силы является Графиня. Герой гибнет, и все-таки в музыке Чайковского торжествует любовь: в финале оперы звучит светлая тема любви, как гимн ее красоте, могучему порыву человеческой души к свету, радости и счастью. Предсмертное обращение Германа к Лизе как бы искупает его вину и вселяет надежду на спасение его мятежной души.Сюжет повести обыгрывают излюбленную Пушкиным (как и другими романтиками) тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер немец Германн ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в уки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Его приятель Томский рассказывает историю, про то как его бабушка-графиня будучи в Париже проиграла крупную сумму в карты под своё слово. Она попыталась взять взаймы у графа Сен-Жермен ,
но вместо денег тот раскрыл ей секрет про то, как угадать в игре три карты сразу. Графиня, благодаря секрету полностью отыгралась.
Наталья Петровна Голицына - прототип графини из "Пиковой дамы"
Германн,соблазнив её воспитанницу, Лизу, проникает в спальню к графине и мольбами и угрозами пытается выведать заветный секрет. Увидев в его руках незаряженный пистолет, графиня умирает от сердечного приступа. На похоронах Германну мерещится, что покойная графиня открывает глаза ибросает на него взгляд. Вечером её призрак является Германну и говорит,что три карты («тройка , семёрка , туз ») принесут ему выигрыш, но он не должен ставить больше одной карты в сутки. Три карты становятся для Германна навязчивой идеей:
В Москву приезжает знаменитый картёжник миллионер Чекалинский. Германн ставит весь свой капитал на тройку, выигрывает и удваивает его. Наследующий день он ставит все свои деньги на семёрку, выигрывает и опять удваивает капитал. На третий день Германн ставит деньги (уже около двухсот тысяч) на туза, но выпадает дама. Германн видит на карте усмехающуюся и подмигивающую пиковую даму, которая напоминает ему графиню. Разорившийся Германн попадает в лечебницу для душевнобольных , где ни на что не реагирует и поминутно «бормочет необыкновенно скоро: — Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»
Князь Елецкий (из оперы «Пиковая дама»)
Я вас люблю, люблю безмерно,
Без вас не мыслю дня прожить.
И подвиг силы беспримерной
Готов сейчас для вас свершить,
Ах, я терзаюсь этой далью,
Состражду вам я всей душой,
Печалюсь вашей я печалью
И плачу вашею слезой...
Состражду вам я всей душой!
Седьмая картина начинается бытовыми эпизодами: застольной песней гостей, легкомысленной песней Томского «Если б милые девицы» (на слова Г. Р. Державина). С появлением Германа музыка становится нервно-возбужденной.
Тревожно-настороженный септет «Здесь что-нибудь не так» передает волнение, охватившее игроков. Упоение победой и жестокая радость слышатся в арии Германа «Что наша жизнь? Игра!». В предсмертную минуту его мысли вновь обращены к Лизе, — в оркестре возникает трепетно-нежный образ любви.
Герман (из оперы «Пиковая дама»)
Что наша жизнь - игра,
Добро и зло, одни мечты.
Труд, честность, сказки для бабья,
Кто прав, кто счастлив здесь, друзья,
Сегодня ты, а завтра я.
Так бросьте же борьбу,
Ловите миг удачи,
Пусть неудачник плачет,
Пусть неудачник плачет,
Кляня, кляня свою судьбу.
Что верно - смерть одна,
Как берег моря суеты.
Нам всем прибежище она,
Кто ж ей милей из нас, друзья,
Сегодня ты, а завтра я.
Так бросьте же борьбу,
Ловите миг удачи,
Пусть неудачник плачет,
Пусть неудачник плачет,
Кляня свою судьбу.
Хор гостей и играющих (из оперы «Пиковая дама»)
Юности не вечно длиться
Будем пить и веселиться!
Будем жизнию играть!
Старости не долго ждать!
Юности не вечно длиться,
Старости не долго ждать!
Нам не долго ждать.
Старости не долго ждать!
Не долго ждать.
Пусть потонет наша младость
В неге, картах и вине!
Пусть потонет наша младость
В неге, картах и вине!
В них одна на свете радость,
Жизнь промчится как во сне!
Юности не вечно длиться,
Старости не долго ждать!
Нам не долго ждать.
Старости не долго ждать!
Не долго ждать.
Лиза и Полина (из оперы «Пиковая дама»)
Комната Лизы. Дверь на балкон, выходящий в сад.
Вторая картина распадается на две половины — бытовую и любовно-лирическую. Идиллический дуэт Полины и Лизы «Уж вечер» овеян светлой грустью. Мрачно и обреченно звучит романс Полины «Подруги милые». Контрастом ему служит живая плясовая песня «Ну-ка, светик-Машенька». Вторую половину картины открывает ариозо Лизы «Откуда эти слезы» — проникновенный монолог, полный глубокого чувства. Тоска Лизы сменяется восторженным признанием «О, слушай, ночь».
Лиза за клавесином. Около нее Полина; здесь же подруги. Лиза и Полина поют идиллический дуэт на слова Жуковского («Уж вечер... облаков померкнули края»). Подруги выражают восторг. Лиза просит Полину спеть одну. Полина поет. Мрачно и обреченно звучит ее романс «Подруги милые». Он как бы воскрешает старые добрые времена — не зря аккомпанемент в нем звучит на клавесине. Здесь либреттист воспользовался стихотворением Батюшкова. В нем формулируется идея, впервые получившая выражение в XVII веке в латинской фразе, ставшей тогда крылатой: «Et in Arcadia ego», означающей: «И в Аркадии (то есть в раю) я (смерть) есть»;
в XVIII веке, то есть в то время, которое вспоминается в опере, эта фраза переосмысливалась, и теперь она означала: «И я когда-то жил в Аркадии» (что является насилием над грамматикой латинского оригинала), и именно об этом поет Полина: «И я, как вы, жила в Аркадии счастливой». Эту латинскую фразу часто можно было встретить на надгробиях (такую сцену дважды изобразил Н.Пуссен); Полина, тоже, как и Лиза, аккомпанируя себе на клавесине, завершает свой романс словами: «Но что ж досталось мне в сих радостных местах? Могила!») Все тронуты и взволнованы. Но теперь сама Полина желает внести более веселую ноту и предлагает спеть «русскую в честь жениха с невестой!»
(то есть Лизы и князя Елецкого). Подруги бьют в ладоши. Лиза, не принимая участия в веселье, стоит у балкона. Полина и подруги запевают, потом пускаются в пляс. Входит гувернантка и кладет конец веселью девушек, сообщая, что графиня,
услышав шум, рассердилась. Барышни расходятся. Лиза провожает Полину. Входит горничная (Маша); она тушит свечи, оставляя только одну, и хочет затворить балкон, но Лиза останавливает ее. Оставшись одна, Лиза предается раздумьям, она тихо плачет. Звучит ее ариозо «Откуда эти слезы». Лиза обращается к ночи и поверяет ей тайну души своей: «Она
мрачна, как ты, она как взор очей печальный, покой и счастье у меня отнявших...»
Уж вечер...
Облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает,
Угасает.
Прилепа (из оперы «Пиковая дама»)
Мой миленький дружок,
Любезный пастушок,
О ком я воздыхаю
И страсть открыть желаю,
Ах, не пришел плясать.
Миловзор (из оперы «Пиковая дама»)
Я здесь, но скучен, томен,
Смотри, как похудал!
Не буду больше скромен,
Я долго страсть скрывал.
Не будет больше скромен,
Он долго страсть скрывал.
Нежно печальное и страстное ариозо Германа «Прости, небесное созданье» прерывается появлением Графини: музыка приобретает трагический оттенок; возникают острые, нервные ритмы, зловещие оркестровые краски. Вторая картина завершается утверждением светлой темы любви. В третьей картине (второй акт) фоном развивающейся драмы становятся сцены столичного быта. Начальный хор в духе приветственных кантат екатерининской эпохи — своеобразная заставка картины. Ария князя Елецкого «Я вас люблю» обрисовывает его благородство и сдержанность. Пастораль «Искренность
пастушки» — стилизация музыки XVIII века; изящные, грациозные песни и танцы обрамляют идиллический любовный дуэт Прилепы и Миловзора.
Прости небесное созданье,
Что я нарушил твой покой.
Прости, но страстного не отвергай признанья,
Не отвергай с тоской...
О, пожалей, я умирая,
Несу к тебе свою мольбу,
Взгляни с высот небесных рая
На смертную борьбу,
Души, истерзанной мученьем
Любви к тебе...
В финале в момент встречи Лизы и Германа в оркестре звучит искаженная мелодия любви: в сознании Германа наступил перелом, отныне им руководит не любовь, а неотвязная мысль о трех картах. Четвертая картина,
центральная в опере, насыщена тревогой и драматизмом. Она начинается оркестровым вступлением, в котором угадываются интонации любовных признаний Германа. Хор приживалок («Благодетельница наша») и песенка Графини (мелодия из оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце») сменяются музыкой зловеще затаенного характера. Ей контрастирует проникнутое страстным чувством ариозо Германа «Если когда-нибудь знали вы чувство любви»
Как Герман рассчитывает добиться счастья? Представиться графине, подбиться в ее милость,- пожалуй, сделаться ее любовником". Правила расчета откровенно аморальны - чего стоит эта готовность сделаться из корыстных целей любовником восьмидесятисемилетней старухи. В этих размышлениях страшна не только сама искренность, но спокойный, деловой тон, каким высказываются эти планы и эти намерения…
Случай - увидел в окне дома графини "свежее личико" незнакомой девушки - "решил его участь", он встал на путь авантюры. Мгновенно созрел безнравственный план: проникнуть в дом графини с помощью "свежего личика", сделать неизвестного ему человека соучастником злодейства и заставить любой ценой графиню открыть ему тайну трех карт, умолив ее или пригрозив убить ее.
После истории с Лизаветой Ивановной - встреча с графиней является кульминацией игры-аферы Германа. Представ перед старой женщиной в ее спальне после полуночи, Герман осуществляет свой ранее намеченный план - "представиться ей, подбиться в ее милость". Увидев незнакомого мужчину, графиня не испугалась - ее "глаза оживились". Молодой офицер "представляется": "Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости". Обратим внимание на реакцию графини. Пушкин подчеркивает один мотив - молчание старухи. После первой фразы Германа Пушкин сообщает: "Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слышала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклоняясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему".
Продолжая "подбиваться в ее милость", Герман начинает умолять выдать ему тайну трех карт. На эту речь, в первый и последний раз, графиня Томская живо реагирует и отвергает сказку о трех верных картах: "Это была шутка,- сказала она наконец,- клянусь вам! это была шутка!"
Таково единственное показание живого свидетеля давних событий, который в рассказе Томского представал персонажем легенды <#"justify">Система повествования у Пушкина гармонирует с изображаемым миром и ориентирована на те формы идеологии, которые заложены в его структуре. Образы персонажей в своем содержании определяются теми культурно-бытовыми и социально-характерологическими категориями, которым подчинена реальная жизнь, дающая материал литературному произведению. Происходит синтез „истории и „поэзии в процессе создания стиля „символического реализма. Символы, характеры и стили литературы осложняются и преобразуются формами воспроизводимой действительности. В сферу этой изображаемой действительности вмещается и сам субъект повествования - „образ автора. Он является формой сложных и противоречивых соотношений между авторской интенцией, между фантазируемой личностью писателя и ликами персонажей. В понимании всех оттенков этой многозначной и многоликой структуры образа автора - ключ к композиции целого, к единству художественно-повествовательной системы Пушкина.
Повествователь в „Пиковой Даме, сперва не обозначенный ни именем, ни местоимениями, вступает в круг игроков, как один из представителей светского общества. Он погружен в мир своих героев. Уже начало повести: „Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра - повторением неопределенно личных форм - играли, сели ужинать - создает иллюзию включенности автора в это общество. К такому пониманию побуждает и порядок слов, в котором выражается не объективная отрешенность рассказчика от воспроизводимых событий, а его субъективное сопереживание их, активное в них участие. Повествовательный акцент на наречии - незаметно, поставленном позади глагола („прошла незаметно - в контраст с определениями ночи - „долгая зимняя); выдвинутая к началу глагольная форма - играли („однажды играли в карты; ср. объективное констатирование факта при такой расстановке слов: „однажды у конногвардейца Нарумова играли в карты); отсутствие указания на „лицо, на субъект действия при переходе к новой повествовательной теме - „сели ужинать, внушающее мысль о слиянии автора с обществом (т. е. почти рождающее образ - мы) - все это полно субъективной заинтересованности. Читатель настраивается рассматривать рассказчика, как участника событий. Ирония в описании ужина, шутливый параллелизм синтагм: „Но шампанское явилось, разговор оживился - лишь укрепляют это понимание позиции автора. Эта близость повествователя к изображаемому миру, его „имманентность воспроизводимой действительности легко допускают драматизацию действия. Повествователь тогда растворяется в обществе, в его множественной безличности, и повествование заменяется сценическим изображением общего разговора. Функции рассказчика - на фоне диалога о картах - передаются одному из гостей - Томскому, который тем самым приближается к автору и обнаруживает общность с ним в приемах повествования. Таким образом, прием драматизации влечет за собой субъектное раздвоение повествовательного стиля: Томский делается одной из личин повествователя. Речь Томского двойственна. В ней есть такие разговорные формы, которые языку авторского изложения несвойственны. Например: „она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много... - „начисто отказался от платежа. - „Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! - „Да, чорта с два! - „Но вот, что мне рассказывал дядя... - „Проиграл - помнится, Зоричу - около трехсот тысяч... Это - отголоски устной беседы. Рассказ Томского определен драматически ситуацией, т. е. вмещен в уже очерченный бытовой контекст и обращен к слушателям, которые частью уже названы и бегло охарактеризованы. Поэтому на образ Томского ложится отсвет и от его собеседников, внутренний мир которых ему родственен и понятен, как представителю того же социального круга („Вы слышали о графе Сен-Жермене... „Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида... „Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал). Томский гораздо ближе к обществу игроков, чем автор. Ведь анекдот Томского, его рассказ возникает из диалога, с которым он тесно связан. А в этом диалоге Томский, как драматический персонаж, раскрывает не свою художественную личность рассказчика, а свой бытовой характер игрока и светского человека. Итак, в образе Томского органически переплетаются лики повествователя и действующего лица. Поэтому в основном речь Томского тяготеет к приемам авторского изображения.
В рассказе Томского развиваются и реализуются те стилистические тенденции, которые эскизно намечены авторским вступлением и ярко выражены в дальнейшем течении повести. Можно указать хотя бы на своеобразный тип присоединительных синтаксических конструкций (см. ниже), в которых смысловая связь определяется не логикой предметных значений фраз, а субъективным усмотрением рассказчика, иронически сочетающего и сопоставляющего далекие друг от друга или вовсе чуждые по внутренним своим формам действия и события. „Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости... „Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. „Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше...
Характерен также прием иронически-переносного называния действий и предметов. Например, „бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости. Это действие затем определяется, как „домашнее наказание, обычно приводившее к нужным результатам. „На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало... Словом „таинственность определяется впечатление, которое производил Сен-Жермен и из-за которого над ним смеялись как над шарлатаном, а Казанова утверждал, что он шпион. „Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный... Ср.: „Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого.
И, наконец, что всего любопытнее, - в рассказе Томского проступает тот же стилистический принцип игры столкновением и пересечением разных субъектных плоскостей. Речи действующих лиц воспроизводятся в тех же лексических, а отчасти и синтаксических формах, которые предносились им самим, но с иронически измененной экспрессией, с „акцентом передающего их рассказчика. Например: „Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь, и что есть разница между принцем и каретником. - Куда! дедушка бунтовал. „Он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни.
Все эти формы выражения, присущие рассказу Томского, неотъемлемы от стиля самого автора. Следовательно, хотя образ Томского, как субъект драматического действия, и именем и сюжетными функциями удален от автора, но стиль его анекдота подчинен законам авторской прозы. В этом смешении субъектно-повествовательных сфер проявляется тенденция к нормализации форм повествовательной прозы, к установлению общих для „светского круга норм литературной речи. Ведь там, где субъектные плоскости повествования многообразно пересекаются, структура прозы, в своем основном ядре, которое неизменно сохраняется во всех субъектных вариациях, получает характер социальной принудительности: создается нормальный язык „хорошего общества.
В связи с этим интересна такая стилистическая деталь: в конце первой главы происходит открытое сошествие автора в изображаемый им мир. Композиционно оно выражено в таком переходе от диалогической речи к повествовательному языку:
„Однако, пора спать: уже без четверти шесть. В самом деле, уж рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.
Таким образом, авторское изложение в формах времени подчинено переживанию его персонажами. Автор сливается со своими героями и смотрит на время их глазами. Между тем, эпиграф решительно отделяет автора от участников игры, помещая его вне их среды. В эпиграфе вся ситуация картежной игры рисуется как посторонняя рассказчику, иронически расцвечиваемая им картина: "Так, в ненастные дни, Занимались они Делом."
В соответствии с законами драматического движения событий, во второй главе действие неожиданно переносится из квартиры конногвардейца Нарумова в уборную старой графини. Так же, как и в сцене ужина после игры, автор первоначально сообщает только о том, что имманентно изображаемой действительности, что непосредственно входит в круг его созерцания.
Но теперь меняется позиция повествователя: он не сопереживает действий с персонажами, не участвует в них, а только их наблюдает. Основной формой времени в повествовании в начале второй главы является имперфект, при посредстве которого действия лишь размещаются по разным участкам одной временной плоскости, не сменяя друг друга, а уживаясь по соседству, образуя единство картины.
„Старая графиня*** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета... У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница... Это введение в новую драматическую картину чуждо того субъективного налета, которым было обвеяно начало повести. Повествователь изображает действительность уже не изнутри ее самое, в быстром темпе ее течения, как погруженный в эту действительность субъект, но в качестве постороннего наблюдателя стремится понять и описать внутренние формы изображаемого мира методом исторического сопоставления. В начале повести молодые игроки своими репликами характеризовали сами себя. Повествователь лишь называл их по именам, как „героев своего времени, как близких своих знакомцев: Сурин, Нарумов, Герман, Томский. Но старуха, совмещающая в своем образе два плана действительности (современность и жизнь 60 лет тому назад), не описывается непосредственно, безотносительно к прошлому, а изображается и осмысляется с ориентацией на рассказ о ней Томского, в соотношении с обликом la Venus moscovite. „Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов, и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад.
Так повествователь выходит за пределы наивного созерцания своего художественного мира. Он описывает и осмысляет его как историк, исследующий истоки событий и нравов, сравнивающий настоящее с прошлым. Соответственно изменившейся точке зрения повествователя происходит расширение сферы повествовательных ремарок за счет драматического диалога. Диалог распадается на осколки, которые комментируются повествователем. Драматическое время разрушено тем, что из сценического воспроизведения выпадают целые эпизоды только называемые повествователем, но не изображаемые им: „И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот. „Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. - "Громче!" - сказала графиня. Князь Шаховской в своей драме принужден был восполнить эту повествовательную заметку, заставив Элизу прочитать начало „Юрия Милославского Загоскина, а старую графиню - критически, с точки зрения старой светской дамы, разобрать этот „вздор.
Впрочем, если драматические сценки вставляются в повествовательные рамки, то и само повествование слегка склоняется в сторону сознания персонажей. Беглый намек на это проскальзывает в рассказе о Лизавете Ивановне после ухода Томского: „...она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки... Кто этот офицер? Почему он не назван? Не смотрит ли на него автор глазами Лизаветы Ивановны, которая знает его лишь по форме инженера? О своем интересе к инженеру она уже проговорилась только что в разговоре с Томским. Читатель по этому намеку уже склонен догадаться, что речь идет о Германне.
Отсюда делается возможным включить в диалог графини с Томским рассуждение о французской неистовой словесности, которое скрывает в себе намеки на литературное творчество повествователя, на ироническую противопоставленность „Пиковой Дамы французским романам кошмарного жанра:
„-...пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.
Как это, grandmaman?
То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!
Таким образом, функции повествования и драматического воспроизведения подвергаются преобразованию: драматические сцены не двигают повести, а сами уже двигаются повествованием, в котором растет значение форм прошедшего времени совершенного вида.
Не то было в повествовательном стиле первой главы „Пиковой Дамы. Там в формы прошедшего времени сов. вида облечены глаголы, обозначающие смену реплик: „спросил хозяин... „сказал один из гостей... „сказал Герман... „закричали гости... „заметил Герман... „подхватил третий... - и смену настроений и движений персонажей: „Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся... Этим синтаксическим приемом определяется динамика диалога, составляющая сущность драматического действия, и устанавливается последовательность смены реплик. Все остальные глагольные формы несовершенного вида повествования распадались: 1) на действия, отнесенные к разным планам прошлого и определяющие границы между этими планами прошлого (это - формы имперфекта); - до четырех часов утра: „Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова... „Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие в рассеянности сидели перед пустыми приборами... - без четверти шесть: „В самом деле, уже рассветало... и 2) на действия, сменившиеся в пределах этих отрезков прошлого, заполнившие это прошлое движением (это - формы перфекта, прошедшего времени сов. вида). „Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Но шампанское явилось - разговор оживился, и все приняли в нем участие... Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.
Таким образом уясняются принципы смешения повествования с драматическим представлением в сцене ужина после игры. Здесь повествование включает в себя лишь лаконические ремарки режиссера и заменяет бой часов. Совсем иными принципами определяется соотношение диалога и повествовательной речи в картине у графини. Повествование, с одной стороны, растворяет в себе диалог. Автор не только называет сопутствующие диалогу движения, но объясняет их смысл, т. е. сводит диалог на степень повествовательной цитаты, нуждающейся в комментариях: „Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием. С другой стороны, повествование не только облекает диалог, но сопоставлено с ним, как господствующая форма сюжетно-композиционного движения. Оно как бы повышено в своем смысловом уровне и тянет за собой диалогические отрезки. Формально это выражено в прицепках повествовательных частей к репликам при посредстве союза и с присоединительным значением: диалог тем самым становится синтаксическим звеном повествования. Например: „Умерла! - сказала она... - Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня... - И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот (см. гл. XV).
Повествователь, как кино-техник, в быстром темпе передвигает сцены старушечьих капризов. Этот прием быстрого смещения драматических отрывков позволяет повествователю символически, через образ старухи, показать жизнь Лизаветы Ивановны и тем самым, еще раз перевести повествование в субъектную плоскость героини.
Так образ повествователя погружается в атмосферу изображаемой жизни, как образ сопричастного героям наблюдателя и разоблачителя. Раньше, в конце первой главы, эта сопричастность субъекта художественной действительности выразилась в утверждении объективности этой действительности.
Во второй главе „Пиковой Дамы повествователь лирически утверждает самоопределение Лизаветы Ивановны, настраивая читателя на сочувствие к ней („В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание).
Таким образом, экспрессия речи, заложенные в синтаксисе и семантике формы субъективной оценки говорят о том, что автор делается спутником своих героев. Он не только выражает свое личное отношение к ним: он начинает понимать и оценивать действительность сквозь призму их сознания, однако, никогда не сливаясь с ними. Впрочем, это слияние невозможно уже по одному тому, что автору предстоят три „сознания, три характера, в которые он погружается и мир которых становится миром повествования, - образы старой графини, Лизы и Германа. Троичность аспектов изображения делает структуру действительности многозначною. Мир „Пиковой Дамы начинает распадаться на разные субъектные сферы. Но это распадение не может осуществиться хотя бы потому, что субъект повествования, ставши формой соотношений между ликами персонажей, не теряет своей авторской личности. Ведь эти три субъектных сферы - Лизы, Германа и старухи - многообразно сплетаются, пересекаются в единстве повествовательного движения; ведь они все вращаются вокруг одних и тех же предметов, они все по разному отражают одну и ту же действительность в процессе ее развития. Однако не только пересечение этих субъектных сфер, формы их смысловых соотношений организуют единство сюжетного движения, но и противопоставленность персонажей автору. Автор приближается к сфере сознания персонажей, но не принимает на себя их речей и поступков. Персонажи, действуя и разговаривая за себя, в то же время притягиваются к сфере авторского сознания. В образах персонажей диалектически слиты две стихии действительности: их субъективное понимание мира и самый этот мир, частью которого являются они сами. Возникшие в сфере авторского повествования, они так и остаются в его границах, как объекты художественной действительности и как субъектные формы ее возможных осмыслений.
"В конце первой главы происходит открытое сошествие автора в изображаемый им мир". (Виноградов В.В.)